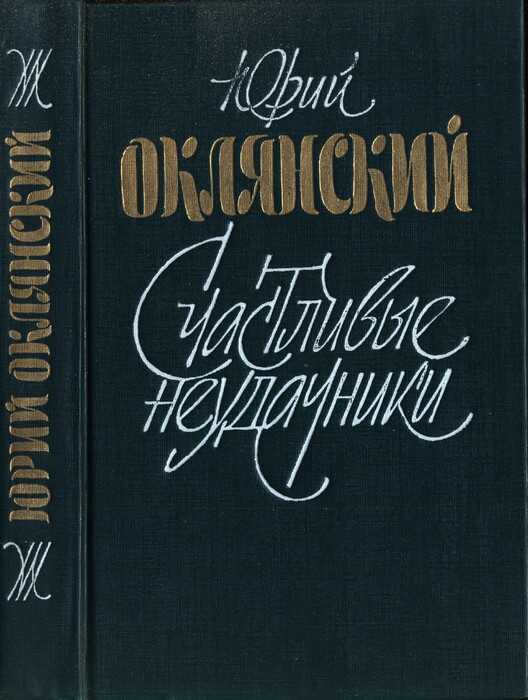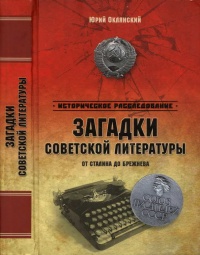Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
Отзываясь на это замечание, Ю. Трифонов сказал: «Форма романа, которую называют… полифоническим романом сознания или романом самосознания… придумана не мной. В литературе XX века есть немало таких произведений, в том числе и в ранней, и в современной советской литературе. Мне кажется, что в этом способе изображения… много преимуществ. Ведь человек несет в себе — осознанно или неосознанно — все, что он пережил, или все, что ему пришлось пережить. Он не может стряхнуть с себя груз прошлого. Оно сидит в нем… Как писатель я, так сказать, обязан анатомировать суть человека… Я уже написал несколько книг в таком роде и думаю, что и в будущем буду писать в этой же форме» («Роман с историей», 1981).
Но в сюжетном развитии произведения, где изображается гражданская война, как уже сказано, читатель наблюдает не просто поток сознания героя — на этих страницах течет река общенародной жизни. «Старик» — это и полифонический роман сознания и роман-эпопея, если, конечно, определять жанр существом изображаемых коллизий, а не количеством печатных страниц. Может, впервые с такой широтой и свободой у Трифонова действуют люди самых различных классов, званий, сословий, социальных групп… При малом объеме книги огромная плотность персонажей! (Литературовед Ю. Карякин подсчитал, поразив итогом даже самого автора: 39 персонажей, с именами, судьбами, с характерами. Это уж не говоря о тех, не названных и мимолетных, у кого тоже подчас есть намеки судьбы, лица…)
С тактом и психологическим напряжением показывая движение истории сквозь поток сознания своего героя и добиваясь сюжетного драматизма внутри «массовых сцен», Трифонов, помимо прочего, еще и порывает с задубенелой традицией непременного создания в подобных случаях так называемых «военно-исторических картин», с их ложным монументализмом и хроникальностью, что берет истоки еще в эпопейных советских романах 30—40-х годов.
Живописность в изображении и сюжетная значимость даже самого малого эпизодического персонажа в историческом произведении зависит от того, насколько все оно в целом вспоено соками правды. В этом убеждаешься, вглядываясь в полотна Сурикова или перечитывая «Тихий Дон» Шолохова. Недаром автор «Старика» образцом в постижении жизненной правды считал эту эпопею. Тем смелей его собственная работа, что рядом с исчерпывающей, казалось бы, глубиной «Тихого Дона» при нередком обращении к сходному жизненному материалу у Трифонова найдены самобытные идейно-художественные решения…
О Трифонове много писалось как о мастере «городской» прозы. Но писатель не смог бы с такой силой и пониманием запечатлеть натуру Мигулина, сделав крестьянского революционера одним из главных героев повествования, если бы ему не были внятны и близки проблемы деревни. Небольшая по объему книга олицетворяет многое: в ней художник не только совместил два давних раздельных пласта своего творчества — историю и современность, гражданскую войну и наши дни, но и, еще раз показав вздорность всякого рода делений настоящей литературы по внешним тематическим признакам, выступил одновременно как автор и «городской» и «деревенской» прозы… (Как видим: не одними личными симпатиями было вызвано соратничество Ю. Трифонова и Ф. Абрамова!)
Но вернемся к «дознанию», которое ведет Павел Евграфович. Если виновато время, то есть виноваты все, то значит: никто не виноват. Логика тут простая.
На этом можно было бы примириться, если бы Павла Евграфовича не задела больно одна деталь… Едва открылась возможность, он первым начал хлопотать о реабилитации Мигулина. Собирал документы, с трудом пробил о нем публикацию в журнале. Конечно, главным были принципиальные мотивы, но отчасти делал он это и в память своей молодости, героической, безупречной. И вдруг совсем недавно приходит запоздалый отклик на журнальную публикацию пятилетней давности — письмо от Аси, гражданской жены Мигулина, невесть откуда вдруг отыскавшейся. И среди изъявлений радости и благодарности по поводу случайно прочитанной заметки обронены обидные слова: «…Не понимаю, почему написал именно ты?..» И потом еще: «Ты был в составе секретариата суда… Вообще… тогда как-то верил в виновность…»
А ведь Ася была той женщиной, которую он болезненно и тайно любил в молодости. Выходит, сама героическая эпоха, святыня в душе Павла Евграфовича, отворачивается от него и устами Аси чуть ли даже не обвиняет его в неблагородстве?
Вот это-то и возбудило лихорадочную работу совести и памяти Летунова. А как оно было на самом деле? Почему погиб Мигулин? Как цеплялось одно за другое? Кто как действовал, что говорил? И что он сам думал и чувствовал в каждом случае?
Во время хлопот о реабилитации и подготовки журнальной статьи он собрал много документов и сведений о Мигулине. Да и вообще связанное с ним помнилось хорошо еще и потому, что это был тот человек, которого любила Ася и к которому он поэтому ревниво приглядывался…
Многое всплывало в памяти, восстанавливалось четко. Единственное, что оставалось зияющим пробелом, — ну а как все-таки он сам: верил или не верил? Ответ как-то дробился, путался, ускользал, прятался за частоколом новых вопросов.
Конечно, он был всего лишь двадцатилетний мальчишка, ординарец, от которого, собственно говоря, ничего не зависело. Верил он или нет — на судьбу Мигулина это ровным счетом никак не влияло. Даже если его и посадили писать протоколы тогда, на первом суде, — ну и что? Ведь кто-то же все равно должен был их писать, а протокол — беззвучная бумажка. Да и к Мигулину он всегда относился как к существу высшего порядка. Не только за героические деяния комкора, а и потому еще, что тому принадлежала женщина, которую он, Павлик, любил. Вот так — завидовал, ревновал и боготворил! Бывает. А все-таки интересно знать: как он думал тогда на самом деле? Нет, Ася не должна была писать обидную нелепость, упрекая его спустя полвека, что он тоже верил в виновность. «Хотя, может, и верил, — напрягая память, спохватывался вдруг Павел Евграфович. — Совсем не верить было нельзя. Просто не помнит, как было на самом деле. Было очень грубо, однозначно: изменник, и все!» А он, Павел Евграфович, если и верил, то, конечно, как-то по-другому, не так, как все…
Дадим здесь «стоп-кадр»… А что значит — «как все»? Это предполагает приспособление к принятым в данный момент стандартам поведения и мышления, капитуляцию перед расхожим мнением, пусть сколько угодно обманным и ошибочным, но только потому, что оно господствующее, автоматизм поступков и действий… «Спросите у
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн