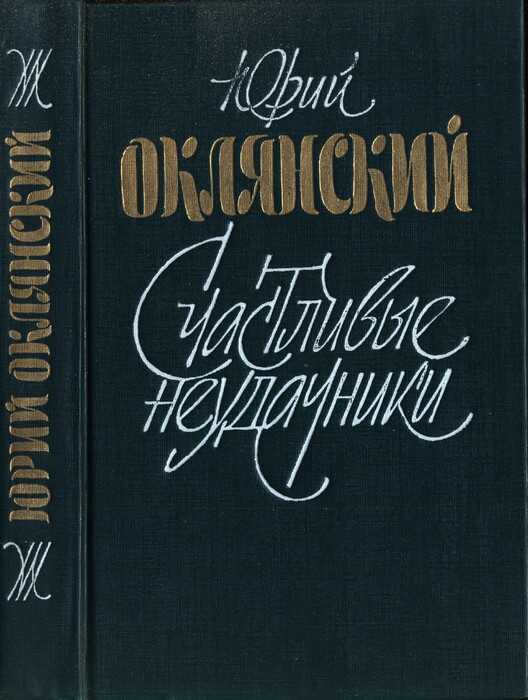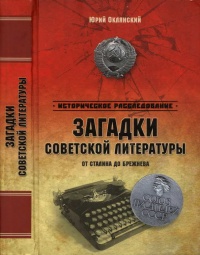Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
Трифонов был самым известным писателем в нашей делегации. Но, подобно Эйле Пеннанен, он держался как-то незаметно, не то чтобы на отшибе, но на заднем плане. Сидел в дальнем ряду стульев, в стороне от стола с микрофонами, бутылками боржоми, листами бумаги для записей. И выступил тоже под занавес, после многих.
Удалось разыскать и извлечь из архивов тогдашнюю стенограмму. Выступление Ю. Трифонова не выправлено, никогда не публиковалось, а между тем на пяти страницах машинописного текста сжато обозначены некоторые дорогие для писателя убеждения.
Выдержки из стенограммы в обрамлении комментариев, позволяющих там, где это уместно, дополнительно прояснить систему литературно-эстетических взглядов оратора, я и привожу ниже.
«Я встречался в Ленинграде и Лахти[7] с финскими писателями, — начал Трифонов. — Мне кажется, что они критически, серьезно анализируют свою работу. Это не парадные выступления, а рабочие». Серьезным и «рабочим» размышлением вслух была и собственная речь Трифонова.
Прежде всего он корректно, но твердо провел отграничительную черту в том, что, на его взгляд, следовало оставить за бортом дальнейших дебатов. «Действительно массовая, — сказал он, — „ширпотребовская“ продукция и пустая, развлекательная, детективная, шпионская и т. д., которая наполняет корзины магазинов, вся эта продукция не имеет отношения к нашему семинару».
Такое заявление не показалось мне обоснованным тогда, да и теперь не кажется справедливым. То, что привлекает массы, толпу, даже если это развлекательная белиберда и бездарное «ширпотребовское» чтиво, заслуживает самого пристального и тщательного анализа.
Вношу это уточнение лишь для того, чтобы оттенить эстетическую позицию писателя. Конечно, простейшие истины реального существования искусства Трифонов понимал не хуже меня. Но как художник он делал ставку на подготовленного, мыслящего, квалифицированного читателя, тяготеющего не только к передовым идеям века, но и склонного к восприятию новаторских исканий в сфере изобразительных средств и художественной формы.
Стоит ли говорить, что в этом не было и тени снобизма, а выражало лишь стремление через избранного читателя воздействовать и на другую публику, дружащую с книгой, не плестись в хвосте позавчерашних представлений и вкусов, а, напротив, продолжать диалог на равных, образовывать читателя нравственно, духовно и эстетически, вести его за собой. Именно в этом видел Трифонов верный способ литературного просвещения.
В своем выступлении писатель не раз повторял это слово — «просвещение». С ростом интеллектуального, нравственного, эстетического уровня общества он связывал большие надежды не только в области восприятия искусства. По своему характеру и взглядам он и вообще был в какой-то мере просветителем, Трифонов. Да, не революционером, а именно просветителем. «Революции слишком дорого нам стоили. От них только хуже. Я против революций», — сказал он мне в 1973 году в Дубултах, подразумевая под этим словом кровавое насилие.
Так подходил он и к теме, обсуждавшейся на симпозиуме. «Мне кажется, — говорил Трифонов, — суть всей проблемы — элита, массы — заключена в простом факте просвещения. Уровень читателя, интеллектуальный уровень растет… То, что накопила история искусства, то сейчас накапливает — не полностью, разумеется, по уменьшенной модели — средний, образованный человек. Так вот, чтобы оценить, к примеру, фильм (Бергмана. — Ю. О.) „Земляничная поляна“… надо иметь накопления. Надо, может быть, знать Библию, Данте, Шекспира, Хемингуэя, Льва Толстого, Кафку, Чехова».
Другим, на сей раз уже сугубо эстетическим, убеждением Трифонова была уверенность в том, что «искусство смывает и уносит только то, что не искусство, а истинное, — пускай даже на минуту и для немногих — оно накапливает…» Как он считал, «история искусства в этом и заключается».
С такой точки зрения, скажем, Хлебников занимает в истории литературы никем не заменимое место. «В России был Велимир Хлебников, — говорил Трифонов. — Поэт для поэтов. Его странная поэзия была и в то время совершенно чужда читателям… Прогресса не произошло за 50 лет. Хлебников массовому читателю не нужен. Заумный язык — все эти „у-бе-щу-ры“ и „гзи-гзи-гзео“ — отвергнуты и погребены на кладбище литературного былья.
И, однако, хлебниковская поэзия все же пришла к массовому читателю — через Маяковского, Асеева и затем Евтушенко, Вознесенского и т. д. То есть то, что делалось сугубо для избранных — а Хлебников и не рассчитывал завоевать читателя, — не пропало даром и не исчезло. Оно присоединилось, влилось».
Трифонов был писателем, стоявшим на высоте современного литературного профессионализма. Мировоззренческие и душевные склонности влекли его к русской классике, из которой он прежде всего и особенно выделял Чехова и Достоевского. Житейски и творчески он был тесно связан со многими бок о бок работавшими мастерами советской литературы. Вместе с тем его глубоко интересовал опыт современных западноевропейских и американских прозаиков. Он внимательно приглядывался к тому, что думают о человеке и круге его бытия, как строят композицию, сюжет, диалог Хемингуэй, Фолкнер, Гессе, Бёлль, Маркес, Моравиа (с западногерманским и колумбийским писателями — Генрихом Бёллем и Габриэлем Гарсиа Маркесом — он позже лично встречался, а с итальянцем Альберто Моравиа даже дружил)…
Самостоятельно исследуя жизнь, Трифонов пытался достичь в своей палитре, я бы сказал, синтеза близких ему художественных средств русской классики с дальнейшим пополнением изобразительных возможностей, которое принес и продолжает приносить мировой литературный процесс. Иногда это ему удавалось, иногда нет. Это другое дело. Но как в содержании, так и форме произведений Трифонов не был ничьим эпигоном, а был современно мыслящим, ищущим, изобретающим художником, чуждым литературного провинциализма.
Писатель настойчиво и неутомимо обновлял «краски». Если приглядеться с этой точки зрения к его книгам — от повести «Обмен» до романов «Старик», «Время и место» и «Исчезновение», то бросается в глаза, как по мере расширения охвата эпох, событий и лиц, укрупнения масштаба задач, которые ставит перед собой прозаик, варьируются и усложняются художественные формы.
Традиционное, так называемое объективированное изображение «от автора» — в повестях «Обмен» и «Долгое прощание»… Рассказ о себе пожилого современного интеллигента-литератора, погрязшего в нравственных компромиссах, — «Предварительные итоги»… Внутренний монолог — самооправдание любящей женщины, отчасти повинной в том, что погиб ее муж, сбивчивая, взбудораженная женская психология, в чьих противоречивых показаниях призван разобраться читатель, — «Другая жизнь»… Чередование подачи событий «от автора» и свидетельств «Неизвестного», наблюдавшего с довоенного детства всех жильцов знаменитого дома на набережной Москвы-реки, в том числе оказавшегося едва ли не самым жизнестойким Глебова — Вадика Батона («Дом на набережной»)… Повествовательное совмещение двух пластов, двух далеких эпох — драм и героики гражданской войны и теперешней тусклой текучей повседневности, — передаваемых также двояко: то в развертывающейся вспять раненой памяти уцелевшего
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн