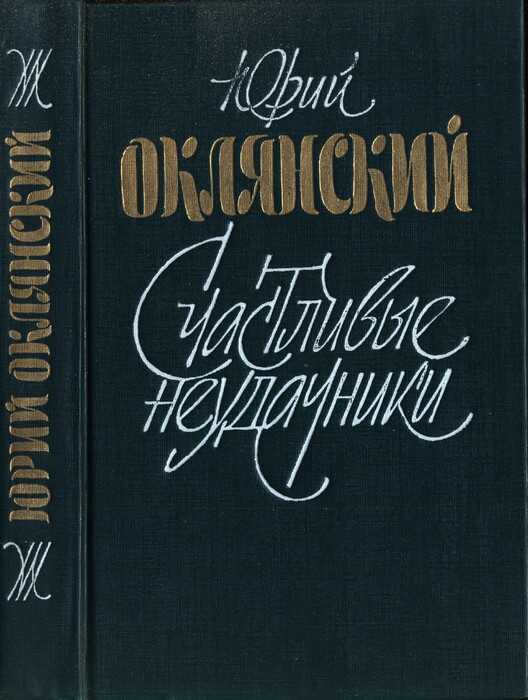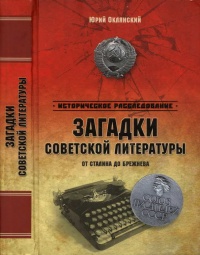Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
В справедливости этого вывода Эренбурга я в полной мере и убедился в ближайшие дни.
Вторая половина статьи «Читая Золя» была посвящена литературной судьбе французского писателя в России — оценкам его творчества, которые давали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, новому всплеску интереса к его книгам в советское время. Наконец — мировому значению художественного опыта Золя.
Статья как статья. Если, конечно, с пониманием воспринимать публицистическую заостренность первой ее части — заостренность, не говоря уже о прочем, оправданную главным событием жизненной биографии и гражданского поведения Золя. Да и почему, собственно, в правительственном органе самого передового в мире государства нельзя писать о том, к чему за семьдесят лет до этого не стеснялись выражать отношение Золя и Чехов? Мое дело — отправить статью в набор, а там пусть мне докажут, что «призраки» национальной ненависти исчезли с лица земли, а антисемитизм — это хорошо.
Я даже и подходящий врез присочинил, объясняющий повод газетного выступления, дающий, как говорят, «привязку» к событиям дня. И даже нарочито оскучнил ее газетными стереотипами, дабы самому бдительному начальственному оку не за что было зацепиться. Дескать, «имя великого французского писателя Эмиля Золя широко известно в нашей стране», «издательство „Художественная литература“ завершает выпуск 26-томного Собрания сочинений писателя» — наиболее фундаментального и полного из всех выходивших до сих пор, что является «важным культурным событием». А затем уж — о традиции меданских чтений в первое воскресенье октября, о том, что в нынешнем году на них приглашен советский писатель И. Г. Эренбург. И концовка: «Мы публикуем написанную к этой дате статью Ильи Эренбурга».
Что тут можно возразить? И как можно такую статью не напечатать?
В те недели я замещал находившегося в отпуске редактора отдела. Это многое упрощало. Я подписал статью, отправил ее в набор и заявил в следующий номер.
Однако статья не была напечатана ни в следующем, ни в через-следующем номере, ни даже пять дней спустя. Каждый раз она без возражений утверждалась на редакционной планерке и всякий раз по роковому стечению обстоятельств и сцеплению вполне объективных причин на каком-то витке формирования номера вылетала из макета или уже из готовой полосы. То при окончательных подсчетах на нее все-таки недоставало места, то ее выбивали срочные и более важные материалы.
Через какое-то время можно было уже вычислить и тот влиятельный кабинет на шестом этаже под бегущей рекламой «Известий», куда так или иначе сходились нити этих невероятно повторяющихся совпадений. Выше я упоминал, что был направлен в «Известия» по решению ЦК КПСС и работал пока что первые недели. Газетное начальство еще не имело времени ко мне присмотреться, не успело меня раскусить. Друзья по редакции впоследствии рассказывали, что обладатель названного высокого кабинета, многих сотрудников вгонявший в трепет тем, что сочетал в себе ум, твердую руку с вкрадчивостью и искусством заспинной дипломатии, в те дни явно собирал сведения обо мне. Заводя наедине с сотрудником речь о том, что «новичок изо всех сил проталкивает статью Эренбурга, а она с душком», он с дружеской прямотой вдруг испытующе спрашивал: «Ты его знаешь? Непонятно! Человек вроде бы партийный, а простых партийных истин не понимает!»
Начальство явно находилось в затруднении. А вдруг он (то есть я) действует не только по собственной инициативе. Вдруг есть договоренность и если не команда, то «мнение» сверху, а он только виду не показывает, разыгрывает простачка, хитрит, чтобы себя в редакции сразу крепче поставить. Знаем таких! Будешь активно противиться этой крамоле — можно ведь и «напороться»! Недаром ведь он (то есть я) прислан от ЦК! Да и Эренбург — стреляный воробей, у него наверху связи, тем более дело касается заграницы! Ну а если никакого «мнения» сверху нет? Если это чистая партизанщина? Напечатаешь — и можно запятнать мундир, вызвать раздражение, если не «получить по шеям» сверху. Как же быть? Испытанный метод в таких случаях — волокитить, тянуть резину…
Со мной между тем никто не говорил, обладатель высокого кабинета делал вид, что он тут ни при чем, а статья не печаталась. Пришлось предпринять демарш перед главным редактором.
Лев Николаевич Толкунов, человек мягкий и нерешительный, после нескольких дней раздумий предложил компромисс:
— Для «Известий» статья вроде бы действительно не совсем подходит, — сказал он. — А что, если напечатать ее в нашем приложении— в «Неделе», а? Давайте в следующий номер и зашлем?
Эренбург находился во Франции. Решать требовалось немедленно, чтобы не упустить «повод». Я согласился.
Статья «Читая Золя» была напечатана в еженедельнике «Неделя», правда, не в первое, а во второе воскресенье октября 1966 года (оно выпало на 9 октября). Передавая Илье Григорьевичу после его возвращения из Франции свежие номера «Недели», я рассказал, чего мне стоила публикация этой статьи — «четыре мешка пролитой крови».
— «Евреи любят питаться кровью младенцев», — тут же сострил, сощурившись в ухмылке, Эренбург.
Посмеялись.
У меня сохранился оттиск только что вышедшей статьи с шутливой дарственной надписью автора на полях: «На память о четырех мешках пролитой крови (ритуал!). И. Эренбург».
VII
Во время посещений И. Г. Эренбурга в центре бесед, естественно, не раз оказывались итоги недавно завершившегося «великого десятилетия», как его без тени юмора еще вчера преподносили всем идеологические песнопевцы партийной пропаганды: хрущевская «оттепель», оценки личности и собственные впечатления И. Г. Эренбурга от встреч с Н. С. Хрущевым.
Эренбург был тем самым писателем, кому тогдашняя эпоха обязана обозначением — «оттепель». Слово это, наверное, именно потому и привилось и закрепилось, получив всемирное распространение, что имело двоякий смысл: оттепель среди зимы и оттепель как конец зимы. Это позволяло пользоваться образным понятием равно и самым разным современникам, и последующим поколениям, уже знавшим, чем все это кончилось.
С поразительной чуткостью и быстротой отреагировал Эренбург на общественные процессы, которые стали происходить в стране после смерти Сталина. Первая часть его повести «Оттепель» появилась в 1954 году. У этой книги теперь, наверное, не так уж много читателей. Но название ее отделилось от произведения, «забыло», как бывает, впервые произнесшие его уста и странствует по всему свету.
Об этом вспоминал и сам Эренбург в нашей беседе для журнала «Вопросы литературы». «Первая часть „Оттепели“, — говорил он, — единственная моя книга, которая родилась от названия. В 1953 году я почувствовал потепление в человеческих отношениях, еще не знал, о чем буду писать,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн