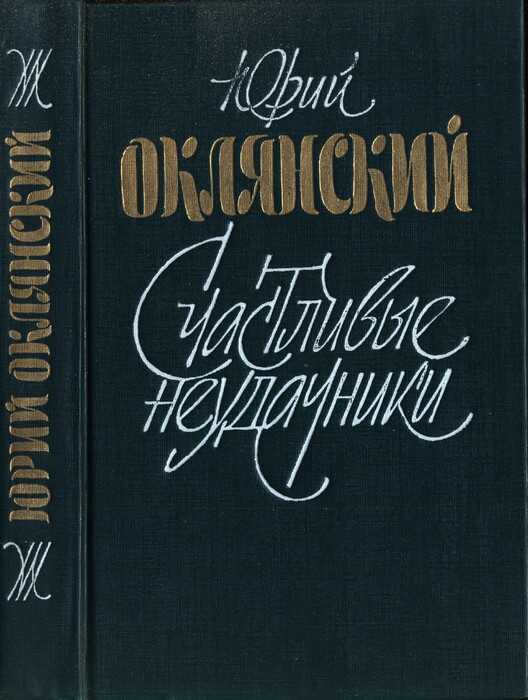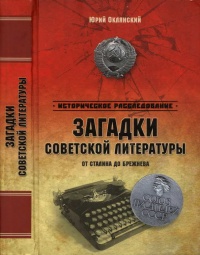Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
Тем не менее добровольные идеологические вериги тяготили художника. В глухое общественное ненастье существование «мыслящего тростника» подвергалось не только внешним, но и внутренним испытаниям. Эренбургу приходилось, подобно Маяковскому, «смирять себя, становясь на горло собственной песне». Или, подобно другому литературному современнику, утешаться сложенным для таких случаев правилом: «делай, что должно, и терпи, что неизбежно».
Поворотным оказался так называемый «великий перелом» на грани начала 30-х годов — всплеск энергии авторитарного государства, натиск индустриализации и коллективизации, уничтожение последних экономических свобод и остатков демократии, что вместе со всем обществом пережила советская литература. Об этом «часе выбора» в мемуарах Эренбурга сказано с подцензурной нарочитой бравурностью, в которой сквозит горечь: «В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять место в боевом порядке… Придется жить, сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию».
Оглядываясь на прожитое, в конце последней завершенной им части мемуаров Эренбург подвел итог этой постоянной борьбе с собой: «Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства».
И именно этому взбунтовавшемуся на исходе лет и захваченному духовным обновлением «второму» Эренбургу обязаны мы всей той живой страстью, энергией мысли и нагой истиной, которые есть в мемуарном повествовании. Хотя, разумеется, совершенно преобразиться еще не удавалось никому и отделаться от цепляющегося за живое тиранического своего «двойника» полностью не удалось, конечно, и автору книги.
В стихотворении «Сонет» Эренбург повторил клятву, которой старался быть верен. Вспоминая давнее впечатление от картины любимого художника Тинторетто, он писал: «…Я все забыл, но не забуду это. Искусство тем и живо на века — Одно пятно, стихов одна строка Меняют жизнь, настраивают душу. Они ничтожны — в этот век ракет И непреложны — ими светел свет. Все нарушал, искусства не нарушу».
Помните — «…но только лиры милой не отдам»?! Тут те же чувства художника, раздираемого страстями эпохи, но носящего в себе зарок, который переступить нельзя. Что бы там ни было — «Октябрь», «Май», «век-волкодав»…
«Искусство живо на века!.. Все нарушал, искусства не нарушу» — вот это и есть одно из наглядных выражений тех ощущений «вечности», которые исповедовал и чтил художник. И благовест от этих высоких соприкосновений с вечностью слышит читатель на многих страницах мемуаров.
В пору, когда печаталась книга «Люди, годы, жизнь», разные художники обеспечивали и поддерживали духовный уровень общества и достоинство литературы. Стоит полистать старые комплекты «толстых» журналов. Рядом с Эренбургом печатались А. Твардовский, А. Солженицын, А. Ахматова, С. Маршак, В. Дудинцев, В. Некрасов, К. Паустовский, В. Тендряков, тот же В. Гроссман, Ю. Домбровский, Ф. Абрамов, Ю. Трифонов, В. Войнович, В. Шукшин, А. Яшин, Ю. Казаков, Г. Владимов… Активно «возвращались» в литературу произведения М. Булгакова, Б. Пастернака, А. Платонова, многих репрессированных писателей…
Были среди этих авторов и «максималисты», и «минималисты». Сам Эренбург иные главы своих мемуаров уже писал «в стол» (как позже, впрочем, и многое в седьмой части), в расчете на публикацию после смерти, то есть писал «для вечности»…
В тиши кабинетов уже тогда закладывались и определялись разные писательские судьбы и будущие пути. Выбор тактики общественного поведения во все времена был делом интимным, сугубо индивидуальным. Он зависит от мировоззренческих убеждений художника, от свойств таланта, от гражданского темперамента, от особенностей натуры, жизненной биографии — да мало ли еще от чего! Важно лишь, чтобы человек, говоря словами бессмертной притчи, не зарывал талант в землю, не лгал, не обманывал, а служил своим призванием родной культуре с полной отдачей сил. Поступать же он волен так, как находит для себя более подходящим и удобным.
Из соседей Эренбурга по журнальной периодике 60-х годов одни вскоре затем целиком переключились на работу в «тамиздате» и «самиздате», другие продолжали тянуть солдатскую лямку в подцензурной печати. Однако и в наступившие муторные беспросветные времена никто из лучших художников-«максималистов» не спешил вырваться из-под здешней «железной пяты» в зарубежные пределы. Их насильственно выталкивали. Высылали, принуждали к отъезду, вероломно лишая гражданства.
Так не было и быть, конечно же, не могло — чтобы люди, олицетворявшие честь и совесть нации, цвет ее культуры, будто стая белых лебедей, охотно снимались с насиженных мест и отлетали в заморские края. Нет, они отстаивали свои убеждения, боролись до конца и продолжали служить освобождению отчизны на чужой земле. В прежние мифы официальной пропаганды теперь уже не верит никто. И вот почему, кстати, ныне так естественно заново сливаются в один поток два рукава искусственно разделенной литературы — лучшее из того, что за десятилетия тирании прорвалось сквозь цензурные рогатки у нас в стране, и то, что наработало русское зарубежье.
Так что различия между «минималистами» и «максималистами» весьма относительны, а родственные связи между ними, если это настоящие художники, абсолютны. Это люди одного высокого ордена.
Нельзя согласиться и еще с одним утверждением Б. Сарнова. В духе общей концепции своей статьи он пишет: «Настоящую исповедь Эренбурга следует искать не в мемуарах его, а в стихах. Стихи были для него возможностью остаться один на один со своей совестью. Тут он не оправдывался. С грубой, ничем не прикрытой прямотой он признавал пораженье:
Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи…» (с. 163).
Озадачивает уже сама манера усеченного цитирования. Ведь весь последующий текст стихотворения — мы знаем — и состоит как раз из «оправданий», из объяснений добровольно сделанного некогда выбора «собачьего служения». Выбора трагически вынужденного, о котором поэт скорбит, но который признает не произвольной ошибкой, а определенным ему эпохой жизненным жребием.
Можно допустить, конечно, что в огромном мемуарном повествовании Эренбургу приходилось больше делать уступок давлению цензуры и идти на компромиссы в угоду печатной проходимости, чем в обычно коротких и разрозненных лирических миниатюрах. Но воистину странно представлять мемуары сферой, где писатель якобы грешил, а поэзию — молельней, где он каялся.
Главное состоит в том, что и там, и здесь воплощен один тип мировоззрения,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн