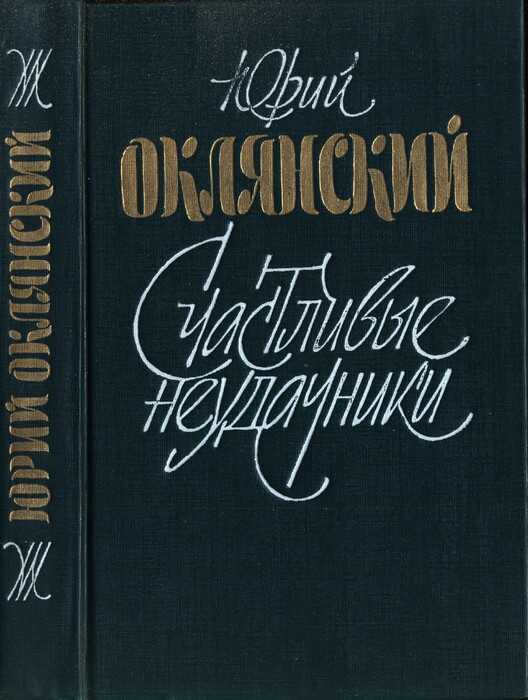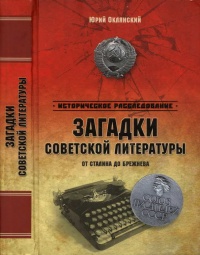Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
Он честно служил „сегодняшнему часу“, „теперешнему времени“ и вовсе не собирался устанавливать какие-то связи с вечностью, прорываться к ней, продираться сквозь все мыслимые и немыслимые помехи. Скорее даже наоборот» (с. 160). Или еще: «Его (Эренбурга. — Ю. О.) беда состояла в том, — подчеркивает критик, — что он сам по доброй воле отказался от своей пророческой миссии… Срочной работы было хоть отбавляй. Это была не „видимость“, а настоящая потребность. И все-таки его уход в эту срочную работу был бегством. Им двигал страх. Боязнь додумать до конца. Страх этот был так велик, что, как видно, до чего-то он все-таки уже успел додуматься. Как сказано в одном рассказе Бабеля, предвестие истины уже коснулось его» (с. 161).
Размашистый тон таких упреков, не знающих полутонов и не желающих входить в разграничения между разными периодами долгой, почти шестидесятилетней, творческой жизни художника, исполнен столь откровенной пристрастности при обсуждении темы «максимализм» — «минимализм», что проводимая критиком классификация выглядит уже почти фатальной. Художнику, коли уж он «минималист», как бы раз и навсегда подрезаются крылья, а ров между «максималистами» и «минималистами» роется, будто ковшом гигантского канавокопателя, — тоже окончательно и бесповоротно. И по одну сторону этой непроходимой межи критик выстраивает Мандельштама, Пастернака, Ахматову, Платонова, Булгакова (как будто эти художники всегда и во всем были только «максималистами»?! А тоже не сочиняли, например, в бедственный час литературных гимнов о Сталине или даже о Кагановиче…), а по другую сторону сиротливо ежится одинокий Эренбург…
Не знаю, специально ли хотел этого критик или такой «перекос» усугубило само здание статьи, содержащей неоправданное, на мой взгляд, противопоставление особой исповедальной роли поэтической лирики остальному творчеству художника, но только в статье Б. Сарнова Эренбург обрисован по преимуществу как писатель страха и компромисса. Если принять версию критика, что Эренбург «по доброй воле отказался от своей пророческой миссии» и не признавал «вечности», то остается неясным, какие же внутренние духовные силы питали в таком случае высшие художественные прорывы прозы писателя, другие взлеты его таланта и громкозвучные «удары под занавес» в последнее десятилетие жизни. Ведь об идущих на смену поколениях писатель думал при этом гораздо больше, чем о нынешней потребе дня.
Мне кажется, что альтернатива — «максимализм» или «минимализм»? — сильно бы потускнела в своем метафизическом ореоле и обрела бы гораздо более земные и четкие очертания, приблизившись к тому, как дело обстояло в реальности, если бы в обсуждениях и спорах о ней больше учитывались особенности натуры, таланта, идейной устремленности, вообще живой личности художника, эстетическую стратегию и линию общественного поведения которого мы собираемся оценить.
Но как раз этого-то и недостает статье Б. Сарнова. Критик не стремится оценить изнутри строй понятий и представлений художника, вытекающих из основ его мировоззрения и дорогих для него, а часто попросту отметает их как негодные и ошибочные. В результате вместе с водой из ванны выплескивается и ребенок.
Только один пример. В главе 33 шестой книги мемуаров, отведенной Сталину, Эренбург пытается объяснить, почему он молчал о некоторых уже тогда известных ему фактах злоупотреблений властью и преступлений режима. Говорит он и о страхе, об инстинкте самосохранения. Но приводит и другие доводы, безусловно, искренние и характерные для коммунистического мировоззрения автора. Один из них — возможными разоблачениями писатель боялся нанести удар «делу социализма». С нынешней нашей точки зрения довод этот, конечно, неприемлем. Но я не стал бы, подобно Б. Сарнову, видеть в нем лишь «не очень внятные самооправдания» (с. 162).
Сходную операцию совершает автор статьи и с представлениями о «вечности». Безусловно, и Маяковский, и Эренбург признавали «вечность», хотя и в категориях марксистского классового мировоззрения, не так, как, скажем, понимали ее Л. Толстой или Б. Пастернак, чьи высказывания о потребности истинного художника творить «в вечности» или, говоря словами поэта, — ощущать себя «вечности заложником у времени в плену», — цитирует критик. Сокровенный смысл этого понятия для Л. Толстого или Пастернака, как, впрочем, и для Мандельштама, Булгакова или Ахматовой, состоял в том, что вечность для них равнялась Богу.
Особого обсуждения заслуживает проблема, что лучше обеспечивает подлинную свободу творчества и как благотворней художнику обобщать жизненные наблюдения — слушаясь лишь голоса творческого дара и «света божьего» в своей душе — таланта и собственной совести и держа ответ только перед Богом или же — сверяя добытые результаты с калейдоскопом безликих, преходящих и подверженных конъюнктуре представлений об «абсолютной истине», «грядущих поколениях», «классовой пользе», требований «заглядывать в завтрашний день», «изображать действительность в революционном развитии» и т. п. Всеми этими дефинициями, как мы хорошо знаем, при посредстве мощной и всеохватной идеологической машины научились жонглировать к своей выгоде очередные земные владыки. И если в прежние времена государство также не чуралось использовать церковь в собственных мирских целях, то успехи тоталитарных режимов в манипулировании представлениями о «вечных ценностях» и «светлом будущем» не идут с этим ни в какое сравнение.
Отъединенное от общечеловеческой нравственности классовое сознание, бесспорно, искажает, дробит и наполняет суетным содержанием понятие «вечности». Но барьеры эти все же относительны и подвижны. В конце концов вне Бога ничто происходить не может, даже если кто-то очень бы этого захотел. Бесспорно и то, что Маяковский, например, не только служил «сегодняшнему часу», но и признавал «вечность». Иначе, как бы он мог надеяться и верить, что его стих «дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств»? Адресовал свои лучшие произведения, конечно, не только «теперешнему времени» и Эренбург.
Означает ли это, что Эренбург находился в полных ладах с «вечностью»? И Сарнов не нащупал тут некоего уязвимого и болезненного места в системе мировоззренческих построений и чувствований художника? Нет, не означает! Но судить об этом с пользой для истины можно лишь предельно конкретно…
Малая изменяемость, а то и жесткость некоторых идеологических и политических понятий искупались у Эренбурга освежающей иронией мысли, отзывчивостью нравственного чувства, почти универсальностью эстетических вкусов.
Зоркий взгляд художника отвергал шоры. И это был человек с завидной биографией, столько испытавший и повидавший на своем веку, что, казалось, своеобразная «калейдоскопичность» его романов (да и мемуарного повествования также) и его «телеграфный» стиль созданы специально для того, чтобы вместить и спрессовать как можно больше впечатлений на единице площади.
Жизнь, и в особенности с окончательной победой сталинской диктатуры, не раз ставила под сомнение незыблемость опорных идеологических и политических
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн