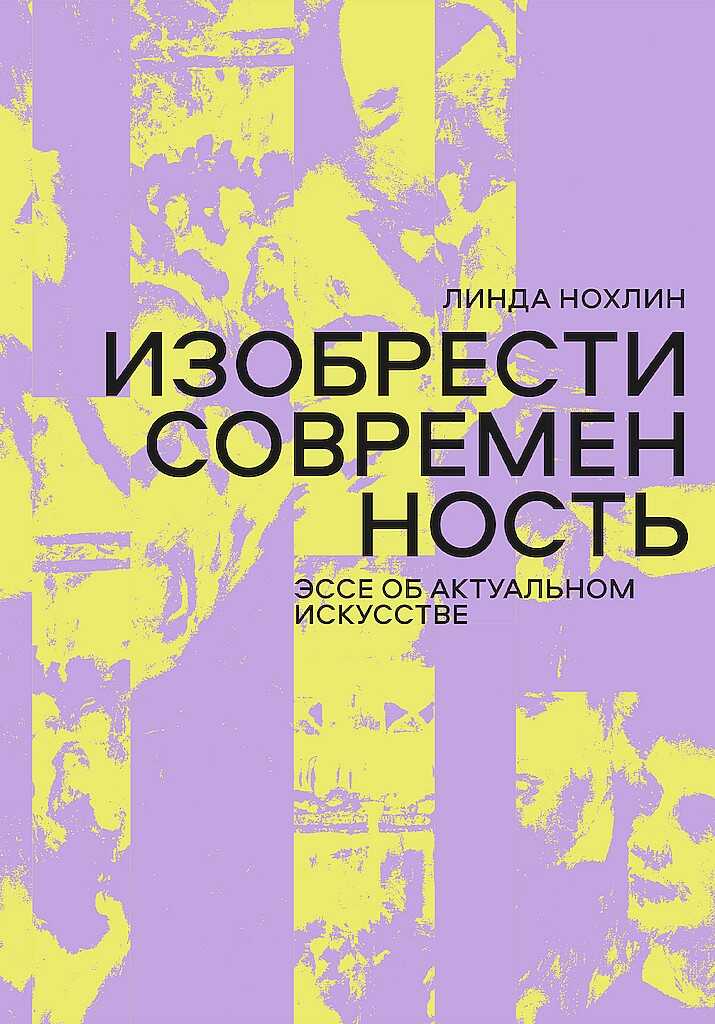Читать книгу - "Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве - Линда Нохлин"
Аннотация к книге "Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве - Линда Нохлин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
«Изобрести современность» — сборник статей историка искусств, почетного профессора Нью-Йоркского университета Линды Нохлин, в который вошли ее знаковые тексты. Героев этих эссе — художников и критиков (Гюстава Курбе, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Эдуарда Мане, Роберта Гобера, Френсиса Бэкона, Энди Уорхола, Мейера Шапиро и др.) — объединяет под одной обложкой подход к модернизму, которого придерживается Нохлин. Это не универсальный нарратив, воплотившийся в определенных формах, а — по формуле Шарля Бодлера — способность художника быть современным, то есть находиться в своем времени. Каждый раздел книги затрагивает определенный социокультурный аспект и мотив, звучащий во многих работах исследовательницы: политическая революция как утопическая возможность, телесность, идеология расы и колониализм, субъективизм в искусстве. Содержит нецензурную брань.
Наконец, было бы интересно сравнить некоторые из поздних, эксцентричных, часто откровенно кэмповых мужских обнаженных Бэкона, например «Штудию человеческого тела» (1982, рис. 97) — вывернутый торс, выделяющийся на красновато-оранжевом фоне и украшенный ни много ни мало ножными щитками для крикета, с обширным репертуаром Энди Уорхола на ту же тему и примерно того же времени. Никто никогда не сравнивал Бэкона и Уорхола, а стоило бы. Обнаженные мужчины Бэкона, хотя и менее бесстрастные, разделяют с персонажами Уорхола двусмысленное наслаждение телом, завороженность соблазнами технической утонченности и шрамами неисправимого материализма.
Примечание редактора английского текста:
Эта статья представляет собой рецензию на ретроспективу Френсиса Бэкона 1996 года в Центре Помпиду в Париже, организованную Дэвидом Сильвестром.
Глава 24. Академическое искусство и смерть нарратива
Лекция, Университет Флориды, Гейнсвилл, штат Флорида, 1984, ранее не публиковалась
Я хочу поговорить на интересную тему: как нарратив попадает в живопись и, что не менее интересно, как он покидает ее.
Кажется, что в академической живописи — особенно среди обладателей Гран-при — нарратив и образ так тесно связаны, что сам вопрос «Как нарратив попадает в живопись?» представляется до смешного наивным. Студентам Школы изящных искусств давали тему из античного текста или Библии и просили ее визуализировать. В этом и состоял весь смысл конкурса: выяснить, кто, по мнению судей, лучше всего справился с этой задачей — важнейшей задачей академической живописи.
И всё же путь, ведущий от текста к фигурации, от слова к изображению, от вербально изложенной программы к визуализированной tableau{72}, не прям и не прост. Более того, он извилист и сложен. Важно отметить, что сами термины, которые мы используем для описания текстовых данных, различны. В случае с упомянутыми работами, получившими Гран-при, мы обычно используем взаимозаменяемые слова «тема», «программа», «история», «эпизод», «нарратив» или «событие». Действительно, можно привести веские доводы, как это сделал Норман Брайсон, что текст и изображение — прежде всего повествовательный текст — скорее блокируют друг друга, чем обеспечивают плавный переход от одного к другому.
Эта проблематичная связь между повествованием и изображением проявляется не только в тех трудностях, с которыми художники — особенно наши молодые претенденты на Римскую премию — сталкиваются при переводе своих программ в образы, но в равной степени и в тех трудностях, которые возникают и возникали у критика или зрителя при преобразовании картины обратно в слова, при вычитывании нарратива из картины.
В идеале эта связь должна быть совершенно «прозрачной»: зритель должен иметь возможность прочитать в картине именно ту программу, из которой исходил художник. Разумеется, такая прозрачность достигается редко; почти всегда требуется помощь в виде вербальных дополнений — начиная с названия и заканчивая часто пространными пояснительными текстами, которые появляются в XIX веке в каталогах Салона. Постоянный недовольный гул критических комментариев относительно того, как конкурсанты выполнили (или не сумели выполнить) свои задания, свидетельствует о трудностях задачи. Итак, возникает вопрос: «Каковы ключевые принципы нарративности?» Юные конкурсанты — и все те, кто, начиная с XVII века, хотел поступить в Академию, — знали и должны были знать эти принципы, когда переводили слова в изображения.
Как отмечает в своей статье 1969 года о теории и практике Французской академии Карл Гольдштейн, существовал ряд критериев, которым должны были соответствовать картины, чтобы считаться успешными историческими картинами[499]. Первый из них касался диспозиции фигур, способствующей доходчивости картины. Это правило сводится к идее, что «звезды должны сиять»: герой или основное действующее лицо данного произведения должны занимать самое видное место в композиции. Другими словами, академический нарратив предполагает иерархическую структуру, позволяющую донести его смысл-как-нарратива. Римскую премию никогда не дали бы за лошадь истязателя, которая «спокойно трется о дерево задом»{73}, если процитировать знаменитую строку из стихотворения «В музее изобразительных искусств» (1938) У. Х. Одена, посвященного «Пейзажу с падением Икара» Питера Брейгеля (ок. 1555).
98 Огюст-Гиацинт Дебэ. Эгисф обнаруживает тело Клитемнестры, полагая, что перед ним мертвый Орест. 1823. Холст, масло. 114 × 146 см
99 Франсуа Бушо. Эгисф обнаруживает тело Клитемнестры, полагая, что перед ним мертвый Орест. 1823. Холст, масло. 114 × 146 см
Действительно, картина Брейгеля наглядно демонстрирует нам как раз то, что отвергала Академия в своем понимании исторической живописи. Даже в случаях, когда история в заявке на Римскую премию предполагала пейзажный контекст, следовало исключить растительность, если она отвлекала внимание от рассматриваемого «события». Задачи академистов были далеки от того, что мы видим на картине Брейгеля «Икар», где, продолжая строки Одена:
<…>, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь — словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей, —
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно
Воды, а изящный корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем, всё дальше уплывал от земли…[500]
Другими словами, в академической практике именно белеющие ноги оказались бы в центре внимания.
Вторым ключевым, с точки зрения Гольдштейна, критерием академической теории было выражение: «Художник, изучающий человеческие эмоции и психологию, внимателен к широкому спектру человеческого опыта, — пишет Гольдштейн. — Он выбирает драматический момент и представляет в лицах и жестах участников разнообразные реакции на это событие»[501]. В двух картинах, разделивших премию в 1823 году, одна из которых была написана Огюстом-Гиацинтом Дебэ, а другая Франсуа Бушо, которые предлагают две интерпретации пятого акта сцены V трагедии Софокла «Электра», где «Эгисф обнаруживает тело Клитемнестры, полагая, что перед ним мертвый Орест» (рис. 98 и 99), мы видим среди действующих лиц широкий диапазон разнообразных выражений. Но, конечно, тело тоже было важным выразительным инструментом, тщательно артикулированным и рационализированным. Современный критик конкурса 1823 года в Journal des Débats{74} подробно анализирует успешное использование выразительности в той запутанной, но ужасной ситуации, которая была предложена программой. Интересно было бы сравнить две получившие награды версии, но критик Journal des Débats обсуждает вопрос выражения только в связи с картиной Дебэ:
Эгисф только что приподнял простыню и обнаружил окровавленный труп Клитемнестры. Преобладающим переживанием при виде подобного зрелища может быть лишь ужас, выражаемый, однако, по-разному, в зависимости от конкретных эмоций каждого. У Эгисфа (первым обнаружившего тело) это удивление, испуг и внезапное предчувствие своей гибели; у Ореста — великая скорбь, ужас перед самим собой и своим роковым матереубийством; у Электры (что неудивительно) — болезненное удовольствие [смешанные эмоции
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут