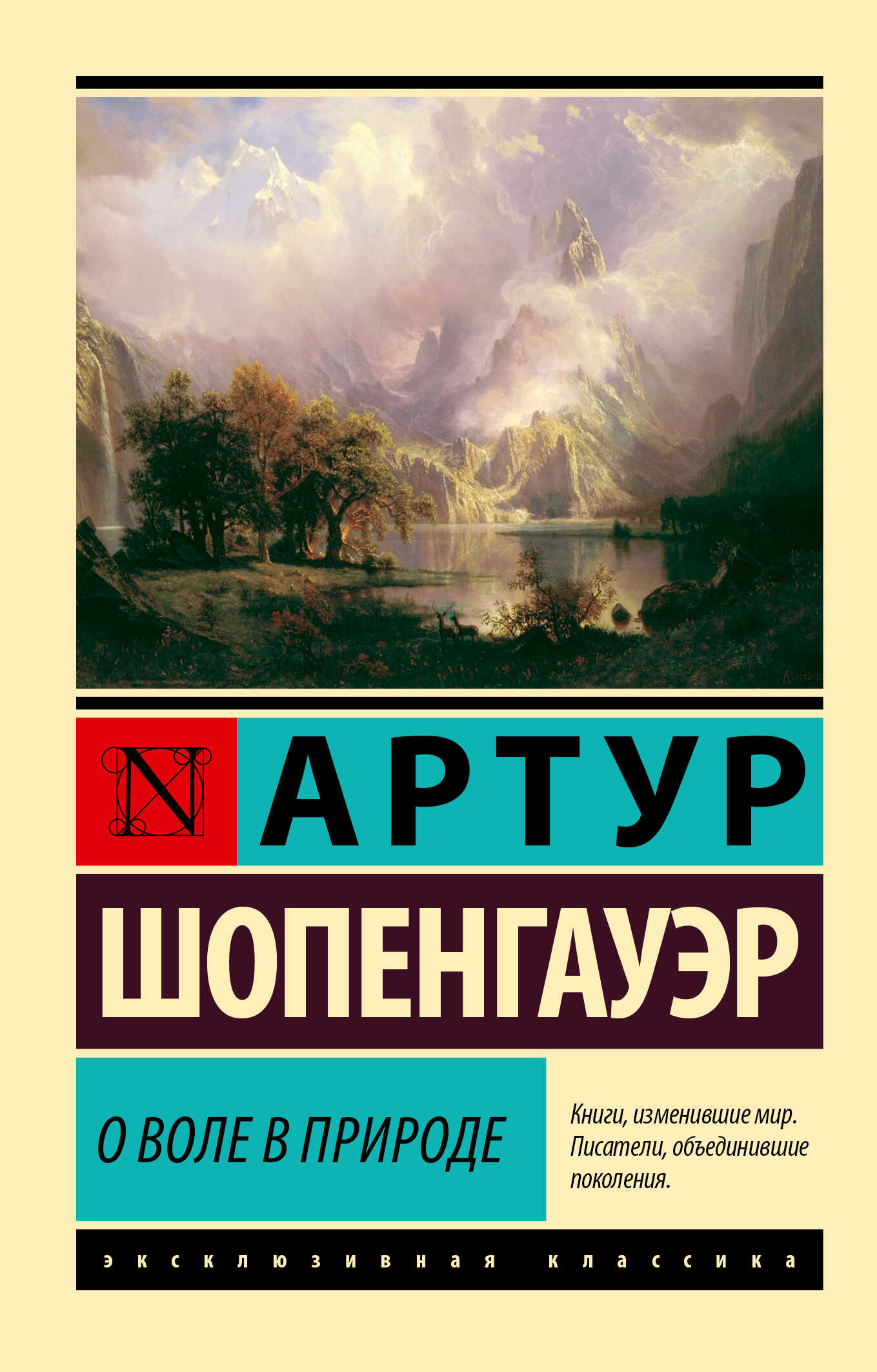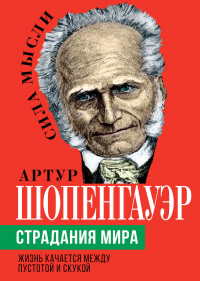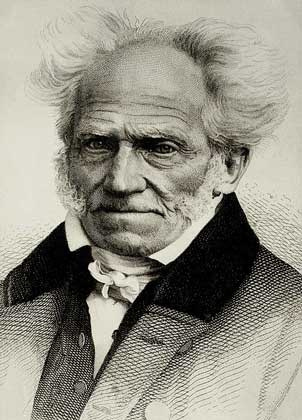который восходит к древнейшим временам, – по-видимому, к тем временам, когда еще не был известен огонь, почему животные и приносились в жертву сырыми. К этому культу относятся жертвы, публично приносимые императором и важными сановниками в известные периоды времени или же после великих событий. Они преимущественно посвящаются голубому небу и земле, первому – в зимнее, а последней – в летнее солнцестояние; а кроме того – всевозможным силам природы: морю, горам, рекам, ветрам, грому, дождю, огню и т. д., причем каждая из этих стихий представлена известным гением, который имеет многочисленные храмы. Такие храмы, с другой стороны, есть и у гения всякой провинции, города, деревни, улицы, даже семейного склепа – иной раз даже и у гения-покровителя торговой лавки; конечно, на долю последних гениев приходится лишь частный культ. Культ же государственный, кроме указанных категорий, воздается еще великим прежним царям, основателям династий, затем героям, т. е. всем тем, кто своим словом или своим делом оказал благодеяние человечеству (китайскому). И у них имеются храмы; у одного Конфуция их 1650. Вот отчего, значит, мы встречаем по всему Китаю множество небольших капищ. С культом героев находится в связи частный культ, который всякая знатная фамилия воздает своим предкам на их могилах. Кроме этого всеобщего культа природы и героев существует в Китае, и притом более в догматических целях, три других вероучения. Во-первых, учение
Таосси, основанное
Лаотзе, одним из старших современников Конфуция. Оно представляет собою учение о разуме, как о внутреннем миропорядке вселенной, или врожденном начале всех вещей, как о великом единстве, кровельном венце (
Таики), поддерживающем все стропила и все-таки находящемся выше их (собственно, это – всепроникающая мировая душа) и о
Тао, т. е. о
пути, подразумевается, к спасению, т. е. к искуплению от мира и его скорбей. Характеристику этого учения, по его первоисточнику, дал нам в 1842 г.
Станислав Жюлиен в своем переводе Laotseu Taoteking; из него мы видим, что смысл и дух учения Тао вполне совпадает с буддизмом. Тем не менее секта эта, по-видимому, отступила на задний план, и учителя ее, «таосси», совсем потеряли свое влияние. Во-вторых, мы находим в Китае мудрость Конфуция, которой особенно преданы ученые и государственные люди; судя по переводам, это пространная, богатая общими местами и по преимуществу государственная мораль, которая не опирается ни на какую метафизику и в которой есть что-то специфически-плоское и скучное. Наконец, для большой массы народа существует возвышенное и любвеобильное учение Будды, имя которого или, скорее, прозвище, выговаривается в Китае, как
Фо или
Фу (Fuh), тогда как в Татарии «победоносно совершенный» чаще слывет под своим фамильным именем Шакиа Муни или также
Буркхан-Бакши; у бирманцев же и на Цейлоне, чаще всего называется он Го́тама, также Татха́гата, первоначальное же имя его – принц Сиддха́рта2. Эта религия, которая как по своему внутреннему совершенству и истинности, так и по наибольшему числу своих исповедников, должна считаться первенствующей на земле, господствует в большей части Азии и насчитывает, согласно новейшему исследователю Spence Hardy, 369 миллионов верующих, т. е. несравненно более, чем всякая другая религия. Названные три религии Китая, из которых самая распространенная, буддизм, существует – что́ весьма говорит в его пользу – безо всякой поддержки со стороны государства, исключительно собственной силой, – далеко не враждебны одна другой и спокойно уживаются между собою; быть может, даже, влияя одна на другую, они сохраняют между собою известное согласие, так что в Китае сложилось даже нечто вроде поговорки, что «три религии – это одна религия». Император, по званию своему, исповедует все три; однако многие императоры вплоть до новейшего времени были специально преданы буддизму; об этом свидетельствует уже их глубокое почтение перед Далай-Ламой и даже перед Тешу-Ламой, которому они беспрекословно уступают первенство. Все эта три религии не имеют ни монотеистического, ни политеистического характера, и, по крайней мере, буддизм не сроден в то же время и пантеизму, так как Будда не признавал теофанией такого мира, который погряз в грехах и страданиях и существо которого, всецело обреченное смерти, держится на краткий срок лишь в силу того, что одно пожирает в нем другое. Вообще слово «пантеизм» заключает в себе, собственно говоря, противоречие, означая понятие, которое само себя уничтожает и которое людьми серьезными никогда ни за что другое и не принималось, как за вежливый оборот речи; вот почему и даровитым проницательным философам прошлого столетия никогда не приходило на ум не считать Спинозу атеистом из-за того только, что он именует мир словом “Deus”; открытие же того, что он будто бы не был атеистом, выпало на долю ничего, кроме пустых слов, не знающим балаганным философам нашего времени, которые немало гордятся этим и потому толкуют об акосмизме, – забавный народец! Я же позволяю себе дать совет: сохраняйте за словами их значение и там, где вы разумеете что-либо иное, употребляйте и другое слово, и потому называйте мир – миром, а богов – богами.
Европейцы, старавшиеся изучить религиозное положение Китая, как это обыкновенно бывает и как в аналогичных случаях это делали уже греки и римляне, прежде всего обращали внимание на точки соприкосновения с вероучением их собственной отчизны. А так как в их мировоззрении понятие религии почти совпадает с понятием теизма, по крайней мере, столь тесно срастается с ним, что отделить их было бы нелегко; так как, помимо того, в Европе до ближайшего знакомства с Азией ради аргумента e consensu gentium[151], распространено было весьма ложное мнение, будто все народы, населяющие землю, чтут единого, или по крайней мере, высшего Бога и Творца мира3, и так как, наконец, они находились в стране, где видели храмы, жрецов, множество молелен и частое исполнение религиозных обрядов, – то они и выработали себе предвзятое убеждение, что и здесь надо во что бы то ни стало найти теизм, хотя бы и в очень своеобразной форме. Когда же они увидели себя обманутыми в своих ожиданиях и нашли, что в стране не имеют ни малейшего понятия о подобных вещах и не имеют даже слов для их выражения, то духу, которым проникнуты были их исследования, вполне соответствовало, что их первые известия об упомянутых религиях сводились к указанию больше на то, чего они не заключают в себе, чем на их положительное содержание, в котором, сверх того, европейским умам и разобраться было бы трудно по многим причинам – например, уже потому, что они воспитаны в оптимизме, в Китае же, напротив, на самое бытие смотрят как на зло и в мире видят поприще, на которое лучше было бы совсем не выступать; или потому, что как буддизму, так и индуизму свойствен глубокий идеализм, – мировоззрение, которое в Европе
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн