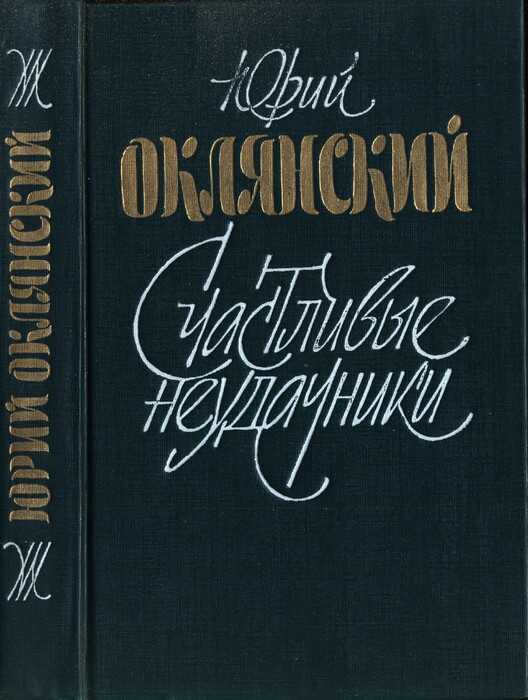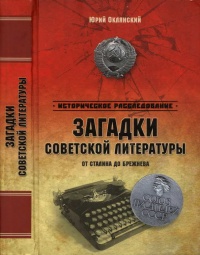Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
Сам Антипов, размышляя над этим, употребляет понятие, которое он называет «синдромом Никифорова». Недуг этот он отмечает и в персонаже своей главной книги — писателе Никифорове, — но понимает, что он относится также к нему самому: «Грубо говоря, это был страх перед жизнью, точнее, перед реальностью жизни. Он заключался „в страхе увидеть“, „в боязни увидеть“».
Вольно или невольно такие писатели отгораживают себя от истинной реальности. Между живой действительностью и чувствительным инструментарием литературного творчества у Никифорова как бы находится непроницаемая прокладка из груза книжной культуры, излюбленных великих образцов, широко утвердившихся понятий и представлений о том, что такое нынешняя жизнь и что такое искусство. В результате книги вырастают из книг. Сама вереница возникающих в литературе таким способом произведений напоминает известный эффект «матрешки»: в самой большой заключена поменьше, в той еще меньше и т. д.
Эта мысль доведена у Трифонова до саркастической гиперболы: Антипов пишет роман о писателе, который в свою очередь пишет роман о писателе и т. д.: «…к середине сентября (Антипов. — Ю. О.) пришел к окончательному выводу, что роман не получился. Это была ужасная правда, но он почему-то испытал облегчение. Да и как мог роман получиться? Ведь это была книга о писателе, который тоже писал роман, роман, который не получился, внутри которого был скрыт другой роман, который тоже не получился…»
Боязнь ступить на зыбкую и непроверенную почву реальности, недостаточность внутренней решимости и отваги, скрытое или явное малодушие — это, конечно, главное. Но ведь и то верно, что крупного самобытного художественного таланта, который бы, несмотря ни на что, восставал, бунтовал, домогался истины, противился книжной вторичности, у Антипова тоже нет.
Дарование есть, но среднее, небольшое. Ощущение несоразмерности сил и неподъемной тяжести груза, который требуется на себя принять и нести изо дня в день, тоже ведь способствует обострению и развитию «синдрома Никифорова»…
Ну а в итоге? Лучшие герои «городского» цикла умеют оставаться самими собой, сохраняя несуетливую человечность, доброту и бескорыстие в ажиотаже гонки за жизненными благами, которыми одержимы другие. Притом даже и в самых критических обстоятельствах, когда средние порядочные люди, по выражению Трифонова, «обнаруживают свой эгоизм». Подчас иные из этих героев и открыто ввязываются в схватки со злом, хотя в этих баталиях и не наносят противнику сколько-нибудь ощутимого урона.
Драматическими и даже трагическими тонами окрашены попытки многих из этих энтузиастов состязаться с разрушительной стихией времени, которой они противополагают значение для жизни памяти былого («…Человек обречен, время торжествует. Но все равно, все равно!»).
Наконец, почти всегда отчетливо сознавая ограниченность собственных сил и возможностей, герои эти, надсаживаясь и стараясь, пытаются исполнить свой долг перед собой и другими людьми…
Мало ли это? Конечно, финал известен. Отречение. Поломанная судьба. Неудачники. Слишком ординарными, как выясняется, были с самого начала личности, на которые лег непомерный груз. Не атланты, а только ненамного выше заурядностей, может быть, лишь самые «порядочные из порядочных». Но то, что они хотя бы на какой-то момент приняли этот груз на себя, не увильнули, держались и жили на пределе всех сил и возможностей, освещает эти фигуры для читателя возвышающим светом драматизма и даже трагизма. А для них самих этот короткий героический и сломивший их миг жизни навсегда метит счастьем. Он обращает их в тех, кого можно назвать «счастливыми неудачниками».
Если вдуматься, писатель, помимо прочего, показывает и трагизм положения ординарного человека, живущего в напряженном и ломком времени.
В философии «счастливой неудачи», понимаемой им широко, в категориях исторического времени, воплощалась для художника важнейшая из позитивных нравственных ценностей.
О том, что он считает «счастливых неудачников» своего рода положительными героями «городского» цикла, говорил и сам Трифонов.
В дважды упоминавшемся уже газетном выступлении «Город и горожане» («Литературная газета», 1981, 26 марта) прозаик уделил внимание и нравственному воздействию, которого он добивается темой «неудачников». Однако нетрудно заметить, что традиционное обозначение — положительный герой — применительно к этим персонажам автор употреблял в полемике с чуждыми ему и уже отжившими свой теоретический век понятиями.
Приведу еще одну выдержку из выступления, опубликованного за несколько дней до кончины писателя и оказавшегося одним из последних сводов его литературно-критических суждений. «В литературе меня больше всего пугает клишеобразное мышление, — отмечал Трифонов. — Приснопамятная теория бесконфликтности порождала сонмы клише. И некоторые из них живучи. Положительный герой не может быть неудачником, а неудачник не может быть положительным героем… Дело простое. Если не может быть конфликтов, значит, не может быть неудачников в жизни. Но жизнь — антиклише. Можно быть неудачником, но таким, что никто вокруг об этом и не подозревает. Можно слыть широко известным счастливчиком, которого гложет скрытая тоска неудачника. Конфликты есть, и не видеть их глупо.
Обращаясь к внутреннему миру человека, исследуя его нравственное состояние, побуждая думать о самих себе, о „вечных вопросах“, литература производит работу по формированию благородных, гармонических людей».
Главным «положительным героем» такого художественного мира, как уже сказано, является сам автор, или, вернее, высота его нравственных истолкований, чувств и понятий о сущем и должном, которые он умеет передать читателю. Может быть, каким-то образом связана с этим и еще одна почти постоянная черта прозы Трифонова — ее автобиографизм.
Для людей, знающих биографию писателя, из его художественных произведений отчетливо встают почти все ее этапы. И довоенное мальчишество на пляжах в Серебряном бору или во дворе знаменитого дома на набережной Москвы-реки, и бездольные юношеские мытарства после ареста родителей, и бессонная работа в заводском цеху, где собирали радиаторы для самолетов, уже отнаряженных на фронт, и годы студенчества в Литературном институте, и быт молодоженов в коммунальной квартире у художника-тестя на Масловке, и поездки за «рассказами и романом» на стройку туркменского канала, и так — вплоть до последних лет жизни.
Книги эти воплощают также и зримые приметы и черты «биографии» той среды, которая составила часть собственной жизни автора, его окружения, с которым он в разные времена был связан. Многое тут тоже близко списано с «натуры». Не обходилось и без того, что после появления иных произведений в микромире посвященных возникали и долго не утихали пересуды: а кого имел в виду автор за образом переводчика в повести «Предварительные итоги»? а чья
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн