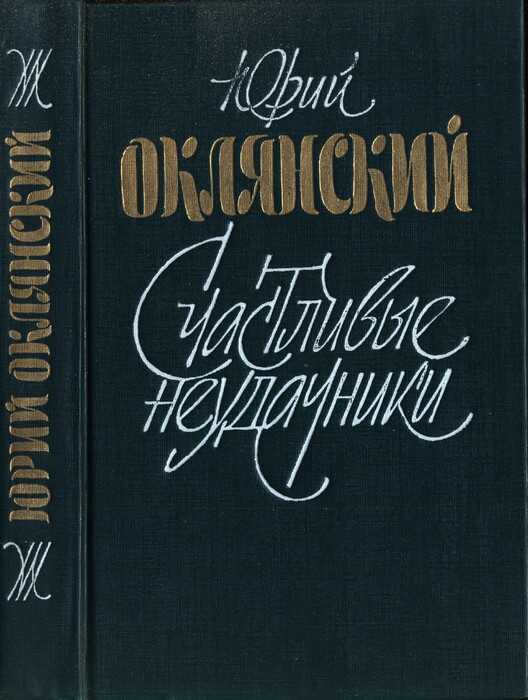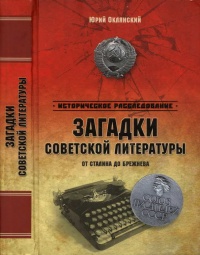Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
Недуги «недочеловечности» с нарастающей сгущенностью воплощает целая галерея персонажей. Причем Дмитриев («Обмен») и Вадим Глебов («Дом на набережной») обозначают собой как бы начало и конец в длинной цепи психологических и нравственных превращений на пути внутренней податливости и приспособительных перемен личности, когда первое грехопадение совести («духовный обмен») только кладет начало дальнейшему манипулированию ею, обращающему самое совесть в то, чем она, казалось бы, никак не может быть, — в некий безотказный инструмент самовнушения для оправдания всякого собственного низкого поступка и деяния, в чем столь навострился Вадим Глебов…
Так в «городском» цикле развивается тема «потока» и конформизма, начатая еще в «Утолении жажды».
Конечно, на входившие в повседневность явления духовной аморфности и расслабленности личности, потери ею нравственных ориентиров обращал внимание не один Трифонов. Предметом специального художественного исследования делали это и другие прозаики. Оно и понятно — ведь в подобных метаморфозах личности прямо или косвенно отражались уже упомянутые изъяны общественной жизни: и не в последнюю очередь ставший укладом разрыв слова и дела, болезнь двоемыслия и двоедушия, все те пороки, в которые еще не раз придется вглядываться литературе.
Духовную аморфность личности и нравственный конформизм в свое время блистательно изобразил в книге «Маленьких романов» (1972) эстонский прозаик Энн Ветемаа. Помню наш разговор с Трифоновым на эту тему.
Трифонов внимательно и серьезно выслушал подробные суждения о «маленьких романах» Э. Ветемаа — «Монумент», «Усталость», «Яйца по-китайски», которые — в этом легко убедиться — столь перекликаются характерами и проблемами с «городским» циклом. Эстонский автор вполне самобытен, никакого подражательства и оглядок тут нет. Это общность жизненного материала, общность взгляда. Сам Юрий Валентинович, как выяснилось, Энна Ветемаа тогда не читал. Но зато он хорошо знал также созвучную ему в этом смысле прозу Андрея Битова или Владимира Маканина. Кстати говоря, в романе А. Битова «Пушкинский Дом» аналогичные явления духовной расслабленности, этической размагниченности индивида и постепенно протекающих на этой почве болезнетворных превращений сознания и совести человека метко поименованы — «нравственная дезориентация личности». Но ведь это и есть то, что происходит с Дмитриевым в «Обмене» или главным героем «Предварительных итогов»: неуловимая, медленная и полная потеря человеком самого себя. Быть может, одна из самых страшных разновидностей духовного растления!
Ю. Трифонова в «городском» цикле интересуют как разнообразие типов личности, характеров и способов поведения людей, несущих в себе психологию потребительства, обстоятельства и условия их теперешнего бытия, так и постепенное их развитие, движение, созревание и формирование в крайние разновидности. Если воспринимать «городской» цикл и создававшиеся параллельно произведения как смысловое единство, некий идеальный «роман-пунктир», по выражению Трифонова, то в них с разных сторон высвечены и обнажены дальние и ближние истоки этих характеров, обрисована их социальная родословная на протяженной дистанции времени, иногда во много десятилетий (пролог — роман «Нетерпение»).
Художественная концепция Трифонова на равных включает в себя как осмысление современности, так и философию истории. Через многообразие жанров, характеров и лиц художественно исследованы общественные явления и их предпосылки.
«Время и место» — так назван последний законченный роман Ю. Трифонова. («Роман в тринадцати главах» — гласил подзаголовок в журнальной публикации). Понятие «время» на первое место поставлено здесь не случайно, как, вероятно, не без намека выбрано писателем и роковое число тринадцать… Чертова дюжина… Тринадцать «вспышек памяти», тринадцать узлов событий из жизни «счастливого неудачника».
Как будто подхваченные вихрем, не в силах остановиться, проносятся герои по страницам этой книги, совершая круг своей жизни. «…И в этом вихре унеслись многие, среди них три женщины, кого я не успел проводить…» Потери, расставания, утраты — то драмы, разворачивающиеся на наших глазах, то воспоминания о них, подобные отдаленным всхлипам аккомпанемента, доносящегося уже туда, где затеялась и по новой стезе влечется другая жизнь.
Похожие мелодии окрашивают так или иначе и остальную прозу Трифонова, созданную в последние пятнадцать лет творчества. Время в них — неодолимый двигатель бытия, первейший и основной распорядитель судьбами героев. Его образ, куда лишь частицей входят описания обстоятельств действия, с помощью разных изобразительных средств лепит прозаик (в романе «Нетерпение», например, к ним прибавляется даже особый персонаж — Клио, богиня истории).
Беспрестанная пульсация и движение бытия — Время — в этих книгах не только созидающее, благосклонное к человеку, дарящее ему жизнь, смысл существования, новые встречи, любовь, радость и счастье. Но что касается отдельных лиц и их окружения (а прежде всего с ними имеет дело писатель), время тут, пожалуй, еще в большей степени — начало разрушающее, иссушающее, равнодушно глотающее человеческие жизни и память о людях, несущее с собой мрак забвения. Иногда даже сдается, что это такое время, которое тасует былые представления предшествующих поколений, как карты, и всякий раз начинает игру по-новому.
Не только с противоборствующей средой, но и с этой секущей, точащей, безжалостной стихией времени приходится иметь дело героям Трифонова.
«Смерть — это вихрь, действующий мгновенно» — подыскивает прозаик подходящее обозначение исчезновению человека из жизни. Поток бытия он именует «жизне-смертью». Одним из блистательных достижений романа «Старик», на что, увлеченная другим, недостаточно обратила внимание критика, является, по-моему, изображение самой старости Павла Евграфовича, который духовно долго подстраивался и сгибался, но последний оставшийся ему срок сумел дожить на всю полноту сил. Силы его с каждым днем скудеют и тают, а он расходует их в полный накал. Насколько только способна еще гореть чадящая и гаснущая свеча…
Трагедия одинокой старости натуры когда-то деятельной, сохранившей верность идеалам и привязанностям времен своей молодости, способной к тревоге совести, прослежена здесь с художественной тщательностью и полнотой. Вместе с тем через Павла Евграфовича Трифонов передает и некоторые собственные понятия о философии времени, о том, что названо в романе «жизне-смертью».
Удары судьбы, боль и страдания, перенесенные в жизни, утраты близких накапливаются в человеке. «Сосуды мертвеют не от холестерина, — размышляет Павел Евграфович, — а от того, что смерть постоянно малыми дозами проникает в тебя. Уход мамы был первым. Уход Гали (жены. — Ю. О.) — наверное, последний… Меняешься не ты сам, а твое отношение к целому… к жизне-смерти… Каждая смерть поселяется в тебе. Чем дальше,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн