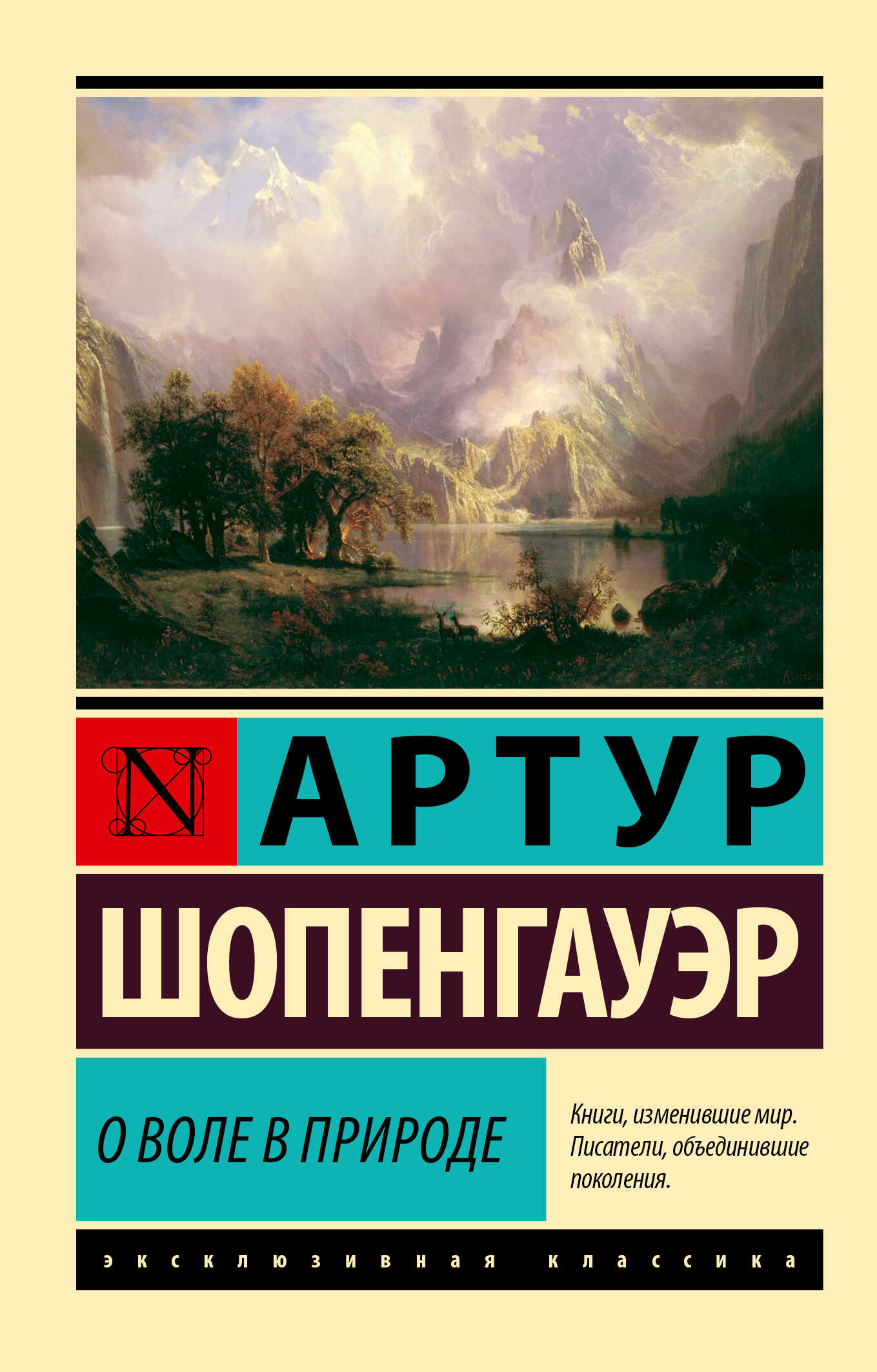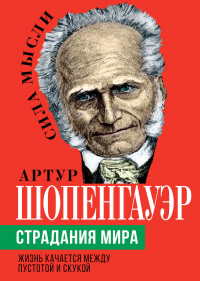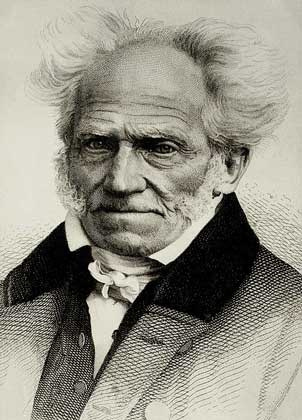вокруг Земли, тем не менее оно существует так же несомненно, как и движение роста; направление же роста определяется и целесообразно изменяется светом, точно так же как действие – мотивом; подобно этому у вьюнковых ползучих растений оно обусловливается встреченной подпоркой, ее местом и формою. Так как, следовательно, растение, вообще говоря, все-таки имеет потребности, хотя и не такие, которые требовали бы затрат, связанных с устройством какого-нибудь сенсория и интеллекта, то последние должно заместить нечто аналогичное, для того чтобы воля получила возможность, по крайней мере, пользоваться встречающимся ей удовлетворением, если уж не искать его. Это и есть восприимчивость к
раздражению, отличие которой от познания, мне кажется, можно выразить таким образом: при познании мотив, выступающий в качестве представления, и следующий за ним акт воли
остаются явственно отделенными друг от друга, и к тому же тем явственнее, чем совершеннее интеллект; при простой же восприимчивости к раздражению ощущение раздражения уже невозможно отличить от вызванного им воления, и оба сливаются в одно. Наконец, в неорганической природе прекращается и восприимчивость к раздражению, аналогии которой с познанием нельзя не признать; но все-таки здесь остается еще разнородная реакция каждого тела на разнородное воздействие; и эта реакция с точки зрения нашего нисходящего анализа и здесь еще представляется как суррогат познания. Если тело реагирует различным образом, то и воздействие должно быть различно и вызывать в нем разное состояние, которое при всей своей смутности все-таки сохраняет еще некоторую отдаленную аналогию с познанием. Если, например, замкнутая в каком-нибудь пространстве вода находит наконец брешь, которой она жадно пользуется, с шумом устремляясь в нее, то конечно, вода не сознает ее, как не сознает кислота вступающей в соединение щелочи, ради которой она освобождает металл, или как не сознает клочок бумаги натертого янтаря, к которому он липнет; тем не менее мы должны признать, что начало, вызывающее во всех этих телах такие внезапные изменения, все еще должно иметь известное сходство с тем, что происходит в нас, когда мы отдаемся какому-нибудь неожиданному мотиву. Прежде соображения такого рода служили мне к тому, чтобы доказать присутствие
воли во всех вещах; теперь же я привожу их для того, чтобы показать, к какой сфере относится
познание, если рассматривать его не изнутри, как это обычно делают, а реалистически, т. е. с точки зрения, лежащей вне его самого, рассматривать как нечто чуждое, – другими словами, с объективной точки зрения, чрезвычайно важной как дополнение к точке зрения субъективной3. Мы видим, что познание в таком случае представляется нам как
среда мотивов, т. е. причинности в применении к познающим существам, – следовательно, как то, что воспринимает изменение извне, за которым должно следовать изменение внутреннее, посредствующее между ними обоими. Вот на этой узкой линии и висит
мир как представление, т. е. весь распростертый в пространстве и времени, телесный мир, который
как таковой не может существовать нигде, кроме как в мозгах, как не могут существовать нигде в другом месте и сновидения, пока они длятся. Чем для животного и человека служит познание как среда мотивов, тем же самым служит для растений восприимчивость к раздражениям, а для неорганических тел – восприимчивость ко всякого рода причинам и, строго говоря, все это различается между собою только по степени. Ибо исключительно вследствие того, что у животного, в меру его потребностей, восприимчивость ко внешним впечатлениям достигла той степени, на которой к ее услугам должны развиться та или другая нервная система и мозг, – исключительно вследствие этого возникает, как функция этого мозга, сознание, а в нем – объективный мир, формы которого (время, пространство, причинность) являют собою тот способ, каким отправляется названная функция. Мы находим, таким образом, что познание изначала вполне рассчитано на субъективное применение, предназначено для служения воле, следовательно, имеет совершенно производное и подчиненное значение и даже привходит к ней как бы только per accidens[91], в качестве условия для воздействия чистых мотивов, вместо раздражений – воздействия, сделавшегося на данной ступени животности необходимым. Возникающий при этом образ мира в пространстве и времени является только планом, на котором мотивы выступают как цели; он обусловливает также и взаимную пространственную и причинную связь наглядных объектов и тем не менее представляет собою только посредствующее звено между мотивом и волевым актом. Какой получится скачок, если этот образ мира, который возникает, значит, как акциденция, в интеллекте, т. е. в мозговой функции животных существ, для того, чтобы они могли найти средства для своих целей и чтобы эфемерида животного существа могла разглядеть свой путь на своей планете, – если этот образ, говорю я, этот простой мозговой феномен, признать за истинную конечную сущность вещей (вещь в себе), а сцепление его частей – за абсолютный миропорядок (соотношения вещей в себе) и допустить, что все это может существовать и независимо от мозга! Такое допущение должно казаться нам теперь в высшей степени скороспелым и дерзновенным; и тем не менее оно было той основой и почвой, на которой зиждились все системы докантовского догматизма; оно служило молчаливой предпосылкой всей их онтологии, космологии и теологии, как и всех aeternarum veritatum[92], на которые они при этом ссылаются. Скачок, о котором я только что говорил, всегда делался втихомолку и бессознательно; то, что он доведен до нашего сознания, в этом – бессмертная заслуга
Канта.
Таким образом, настоящий реалистический способ исследования здесь неожиданно приводит нас к объективной точке зрения на великие открытия Канта, и на этом пути эмпирико-физиологического обсуждения мы приходим туда, откуда исходит его трансцендентально-критическое обсуждение. Именно отправной точкой для последнего является субъективная сторона, и оно рассматривает сознание как данное; но из него самого и из его a priori данной закономерности оно приходит к тому результату, что все происходящее в нем не может быть ничем иным, кроме простого явления. Мы же, с нашей реалистической, внешней точки зрения, которая принимает объективное, существа природы, как нечто безусловно данное, – мы видим, что́ такое интеллект по своей цели и происхождению и к какому классу феноменов он принадлежит; отсюда мы узнаем (в этом смысле a priori), что он должен быть ограничен одними явлениями и что все в нем представляющееся может быть непременно только чем-то по преимуществу субъективно обусловленным, т. е. mundus phaenomenon[93], наряду с тоже субъективно обусловленным порядком в связи частей этого мира между собою; но ни в каком случае не может то, что представляется в интеллекте, быть познанием вещей в смысле того, что они такое сами по себе и как они сами по себе между собою связаны. В общем строе
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн