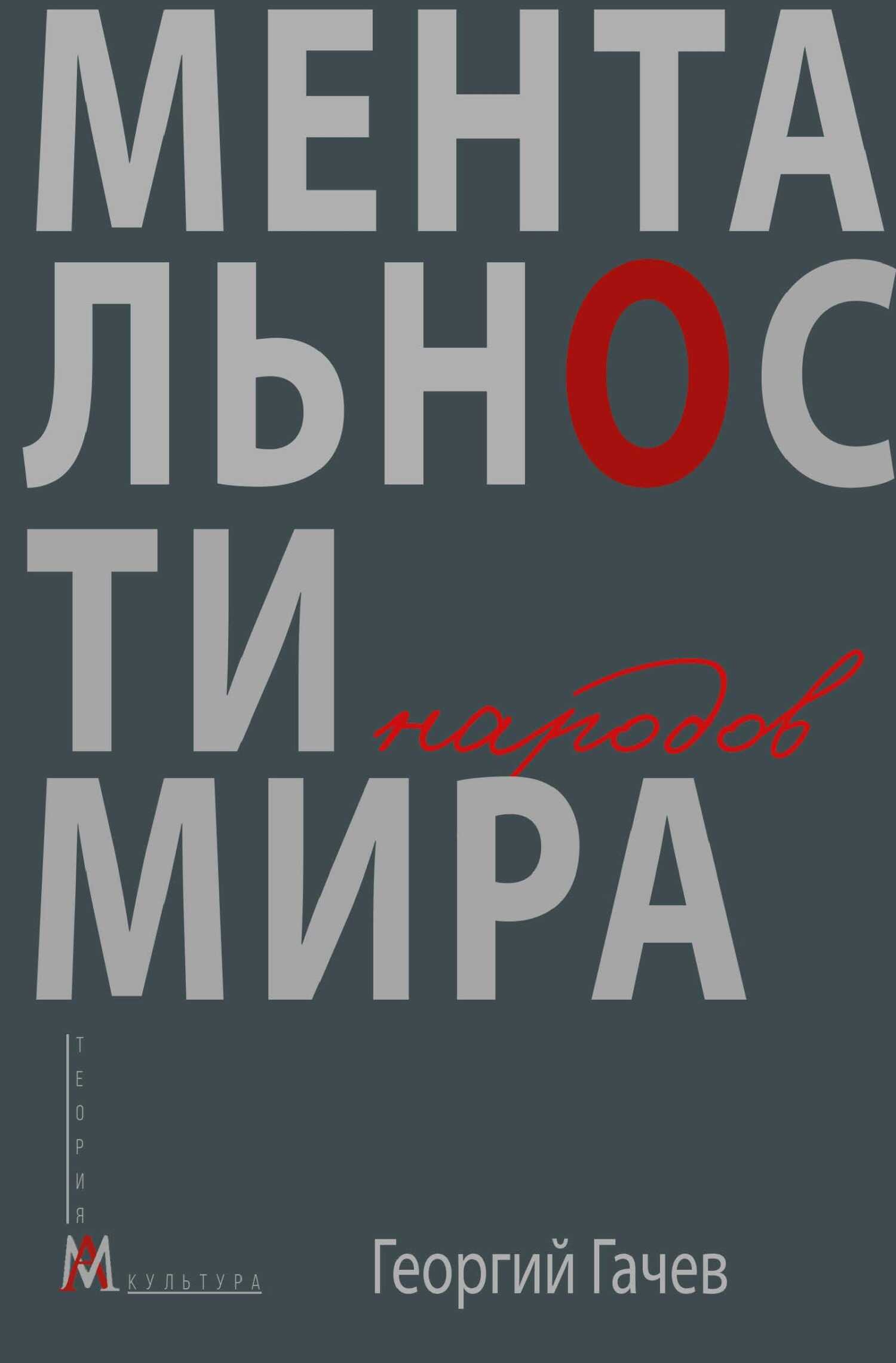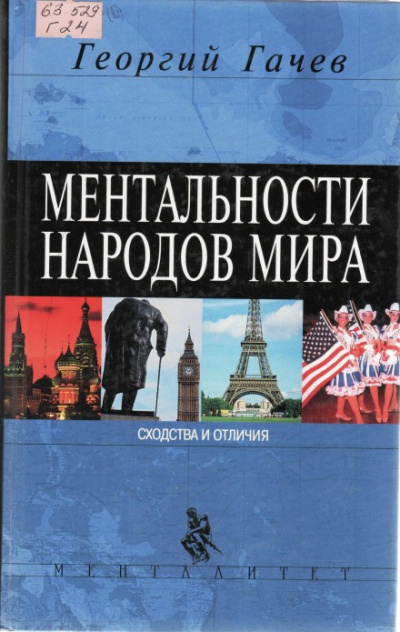Читать книгу - "Ментальности народов мира - Георгий Дмитриевич Гачев"
Аннотация к книге "Ментальности народов мира - Георгий Дмитриевич Гачев", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Книга известного российского философа, культуролога, литературоведа Георгия Дмитриевича Гачева (1929-2008) посвящена национальным особенностям культур и цивилизаций. Каждая национальная целостность рассматривается как Космо-Психо-Логос, т. е. единство местной природы, характера народа и его склада мышления. Междисциплинарный подход позволяет описать национальный мир и национальный ум как некий инвариант на разных уровнях: в быту, языке, религии, литературе и искусствах, в естествознании и т. д. В первой части книги, представляющей собой курс лекций, поставлены общие проблемы и изложена техника исследования национальных ментальностей. Во второй – даны «портреты» национальных миров: Греции, Италии, Германии, Франции, Америки, России, Польши, Болгарии, Грузии, Киргизии. Третья часть представляет собой семинарий, практикум, в рамках которого исследуются национальные образы мира в естествознании и киноискусстве, представлен опыт реконструкции Космоса Достоевского.Книга адресована широкому кругу читателей.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
«Астрономия, во всей целостности, представляет прекраснейший памятник человеческого духа, благороднейшее свидетельство его разума. Возбужденный обманом чувств и своею собственною темнотой, человек долго считал себя центром, вокруг которого движутся светила. Наконец, работа столетий сорвала завесу (все это напоминает декартовы гносеологические принципы: очевидность и ясность – как критерии истины. – Г. Г.), за которою скрывалась истинная система мира. И тогда только человек понял, что связан с одной планетою, которая среди громадной Солнечной системы ничтожно мала; он понял, что и сама Солнечная система, в свою очередь, ничтожно мала сравнительно с неизмеримой величиною мирового пространства» (с. 136).
Только здесь пропорция, как стержень умозаключения, уже обратно направленная сравнительно с началом рассуждения: если там от нашей малости – к величине, то здесь от величины – к нашей малости. В итоге и получается équilibre (баланс), искомое равновесие, симметрия и изящество в рассуждении, что так изыскуется французским духом.
В этом плане показательна и роль числа: Лаплас, не мудрствуя, перечисляет пять групп явлений, которые побуждают заключать об одной причине, действовавшей в образовании Солнечной системы. Почему пять? Просто от счета подряд и измерения. Нет во французском духе того сакрального подхода к числу, как в немецком, которому допустимы либо 1 (единство), либо 2 (антиномия, противоречие), либо 3 (синтез, триада). Француз оперирует цифрами, количествами, немец – числом[57]. Оттого немецкий космос един, определен, но и замкнут, закончен в сравнении с французским более легкомысленным подходом к числу как прагматическому счету (Кювье, например, делит живые существа уже на 4 класса), отчего бытие оставляется открытым, чреватым будущим, незавершенным, свободным, допускающим случайность.
Чтобы утвердить, положить, смочь высказать какую-то мысль в таком, более открытом, свободном (со случайностями) космосе, поскольку невозможно ее опереть на четко выведенные необходимые причины и доказательства (что возможно лишь, если космос предполагается определенным и законченным – как Haus, а эта завершенность бытия основная предпосылка в системах каждого из гигантов немецкой классической философии, и даже Гегель, у которого диалектика все разъедает и открывает каждую завершенность навстречу изменению, все-таки свел концы с концами и завершил бытие – своей системой, как законченным самосознанием бытия), требуется бо́льшая апелляция к вере и чувству, которые, сращиваясь с мыслью, позволяют воспринимать ее утверждения не как голо(во)словные, а как достоверные. Ведь недаром и француз Декарт как критерий истины и всякого утверждения полагал не их доказанность, обоснованность, т. е. закономерную выведенность из предпосылок, а их прямую непосредственную достоверность, оче-видность, ясность, т. е. сразу, без опосредствования. И это понятно, ибо опосредствование возможно лишь при предпосылке завершенного бытия (как у эллинов и немцев): тогда вывод может покоиться на обозримом, конечном числе причин. Когда же космос предполагается свободным и открытым – какие возможны выведения, доказательства и опосредствования, когда нет начала (и конца), когда они проваливаются в дурную бесконечность? В таком космосе единственно твердым основоначалом может быть сразу смыкаемость индивида с какой-то идеей, которая для него несомненна и которая хотя бы тем обретает уже абсолютность и выводится из проваливающихся хлябей, засасывающих причин и обоснований, – что опирается в бытии на волю и чувство индивида, слившего с ней свое существо(вание). Потому Декарт смог как основоположение утвердить cogito ergo sum – совсем ведь частное свое ощущение и убеждение.
У Лапласа форма мысли гораздо более эмоциональна, чем у Канта; и это необходимое гносеологическое свойство французской мысли: ее большая яркость, броскость, эмоциональность, волевой напор[58]. Это, напротив, избегается немцами, которые, работая методом опосредствования, строят мысль как здание, для чего материал и дерево должны быть предварительно высушены и умерщвлены: всякая его яркость, влажность и теплота усиливают обманы. Хотя и Декарт начинает (в «Рассуждении о методе») с противоборства иллюзиям и обманам чувств, стремясь стряхнуть их как сон, но добытый им в итоге пробуждения рационализм – это непосредственный свет истины, разум, а не рассудок, и оттого то, что вещает разум, уже не нужно доказывать и обосновывать, ибо чистый свет очевидности есть сам по себе гарантия истины.
Потому метод Декарта – экспонировать, являть, открывать, проливать свет, излагать, но не обосновывать, доказывать и выводить, чем занимается в философии уже более скромный мастеровой – немецкий рассудок.
Рацио, французский ум еще приемлет теоремы, т. е. прямые умозрения, где все строится на предварительном приятии самоочевидных аксиом и постулатов, но не опосредствование и доказательство. Напротив, немецкий ум склонен расшатать теорему – в доказательство – и все время работает над расшатыванием аксиом и постулатов – как якобы истин, не требующих доказательств = работа критики разума, предпринятая Кантом).
Лаплас в своем «Изложении системы мира» постоянно пользуется недозволенным с точки зрения рефлектирующего немецкого рассудка приемом – обоснованием от противного: «Было бы в самом деле неестественно полагать…» Здесь какой ход мысли? Нечто утверждается и признается истинным только потому, что обратное утверждение представляется невозможным, очевидно противоестественным. Но ведь это такое шаткое основание! Почему оба не могут быть ложны?
Потому, чтобы такое заключение: от отбрасывания противного, т. е., так сказать, реактивное, набирающее силу и энергию существования через попрание антипода, представилось нам достоверным и очевидным, его должен крепить и питать дополнительный свет: веры, воли и чувства – и эти гносеологические источники сильнее выбивают во французской мысли, нежели в немецкой.
Итак, в открытом свободном космосе что-то полагается не случайным (т. е. тем, что может быть и так и иначе), но твердым и обязательным: именно так, и это – есть (естина – истина). И это делается благодаря авторитету – личному (Декарта) или общества (общественное мнение, приговор света), т. е. автору, т. е. чувственно – лично – человеческому исхождению идеи. Так начинает просвечивать парадокс: почему в таком, как французский, свободном, открытом к случайности космосе велись столь непримиримые споры о предопределении и свободе воли (янсенизм, Паскаль, вообще католицизм)? Ведь то, что в германском космосе выступает как необходимость (т. е. нечто разумно практически усвояемое; осмысленное, недаром и Гегель смог примирить с ней свободу, обозначив ее как «осознанную необходимость»), во французском имеет более роковой и жесткий облик фатальности (провидение, промысел, предопределение). И здесь либо либо: либо все случайно, либо все неотменимо, необходимо – даже то, что кирпич этот пал на голову именно этому прохожему (фатализм у французских материалистов); а Лаплас полагал, что если ему дать все данные, то можно вычислить будущее Вселенной и каждого в ней существа.
Если что-то твердо в свободном космосе (в «абсурдном мире» экзистенциализма, к примеру, – недаром на французской почве эта идея особенно развилась), то
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн