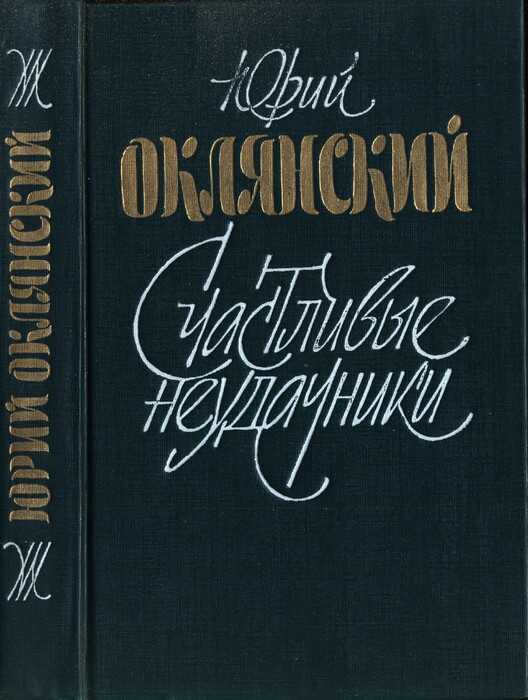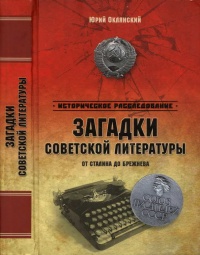Читать книгу - "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский"
Аннотация к книге "Счастливые неудачники - Юрий Михайлович Оклянский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
О драматических судьбах и поворотных событиях в биографиях наших недавних современников увлекательно рассказывает новая книга известного писателя-документалиста Ю. Оклянского. Ее герои — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, И. Эренбург, Б. Слуцкий, В. Панова, Ю. Смуул. В сюжетную канву включаются воспоминания автора, переписка, архивные документы.
…В конце зимы 1968 года я ушел из газеты «Известия», получив приглашение вести дела в Совете по критике и литературоведению Союза писателей СССР. Теперь мы чаще встречались с Борисом Абрамовичем в стенах Центрального Дома литераторов, на писательских собраниях. Иногда случались и важные беседы, вроде той, например, — о переводах Б. Брехта, о которой я уже рассказывал.
Крупным потрясением в общественной жизни страны, принесшим окончательный перевес и победу силам консервативной бюрократии и богдыханского подавления человеческого духа, явилось вторжение войск Варшавского пакта в Чехословакию в августе 1968 года. Советский Союз, который сам еще недавно олицетворял собой антисталинскую «оттепель» и реформаторские поиски в совершенствовании социализма, теперь всей своей вооруженной мощью навалился на небольшую соседнюю европейскую страну, народы которой хотели «социализма с человеческим лицом».
Гусеницами танков на дорогах Чехословакии были раздавлены не только «пражская весна» и реформы А. Дубчека, но и последние надежды и иллюзии передовой интеллигенции и мыслящей части общества на либеральные послабления и реформы в нашей стране. На стенах домов Братиславы и Праги, вдоль улиц, по которым мчались советские танки, жители вывешивали самодельные плакаты со словами Маркса: «Не может быть свободным народ, который порабощает другие народы». Увы, эти отчаянные крики подавленных чехословацких братьев оказались ужасным пророчеством для нас самих на последующие почти двадцать лет…
Именно тогда на высших пультах государственного управления словно повернута была последняя решающая рукоять, включавшая стопор общественного застоя. И год от года, месяц от месяца меркла, блекла, выцветала общественная жизнь…
Все невыносимей и томительней становились, например, партийные собрания в писательском клубе. В памяти сохранились отдельные разрозненные картинки последующего десятилетия. Большой зал ЦДЛ, рассчитанный человек на шестьсот, в те годы иногда заполнялся, может, лишь на четвертую часть, а все равно казалось, что с мертвенной тусклостью сияет свисающая с высоких сводов огромная хрустальная люстра и в зале не хватает воздуха.
Между просцениумом, с возвышающимся на нем и протянутым почти во всю поперечину зала пышным и многолюдным столом президиума, убранным бордовым сукном, слегка выдвинутой вперед могучей светло-коричневой дубовой трибуной, с Государственным гербом СССР на лобной части, и густо населенной «галеркой», в глубине зала, где шла своя, не относящаяся к собранию жизнь, несмотря на постоянные призывы председателя — пересесть поближе! — пролегала «мертвая зона» из нескольких десятков рядов кресел. Лишь кое-где в этой бежевой пустоте одиноко торчали лысые и седые писательские головы. Сплошь занятыми были разве первые три или четыре ряда кресел. Там сидели, надо полагать, самые дисциплинированные, самые образцовые и самые примерные члены партии.
И вот что удивительно — именно в этих первых рядах, бок о бок с подслеповатыми и глухими старыми большевиками, верткими подхалимами и немощными писателями ветеранами, я почти всегда видел и Бориса Абрамовича; его седую голову, вытянутую красноватую шею, края одутловатых полных щек, по-мальчишески оттопыренные крупные уши. Он сидел напряженно, почти не двигаясь, алели мясистые мочки ушей.
Не помню ни разу, чтобы он выступал, лишь иногда с места задавал вопросы ораторам или вносил предложения. Он был «правильный коммунист» и хотел глубже изнутри понять, что происходит, хотел оставаться полезным. Внутренне он осуждал систему, на которую положил столько сил и которую защищал с оружием в руках. Но не отступился от нее, не покинул в лихолетье, не спешил вынести ей окончательный приговор, даже когда она после короткого возрождения заново тяжко занедужила и многие уже видели, что безнадежно.
Он начинал как верноподданный бунтарь. С годами нарастало его критическое неприятие происходящего, честности и отваги было ему не занимать, но переступить какую-то последнюю черту он не мог. В заметке «Памяти друга» Давид Самойлов очень точно о нем написал: «Он был так устроен, что в каждой области духовной жизни должен был создавать шкалу ценностей, и на верху этой шкалы всегда было одно — высшая вера, высшая надежда и высшая единственная любовь…» И еще: «Слуцкий всегда считал, что идеал не терпит предательства, и никогда не менял своих идеалов» («Литературная газета», 1986, 5 марта).
Ну а если идеалы опровергала сама жизнь? Неужто всмотреться в требования реальности и принять их будет предательством?! Для Слуцкого это было так. Он мог разочаровываться в политических деятелях, отвергать правительства, поколения, целые эпохи, мог вносить частные поправки в свои воззрения. Идеалы от этого удалялись, почти уходили за горизонт, но, как грядущий восход солнца, оставались высшей и единственной надеждой.
Эта верность принятому обету однажды уже жестоко подвела Б. Слуцкого. В романе «Доктор Живаго» Борис Пастернак утверждал, что свобода человеческой личности, любовь и милосердие выше революции. Б. Слуцкий, воспитанный в духе революционного самоограничения, в солдатском духе, всегда считал, что великая идея всеобщего человеческого блага, то бишь коммунизм, выше судьбы отдельной личности и, стало быть, выше любви.
Кроме того, свой роман, отвергнутый печатными изданиями у себя дома, Борис Пастернак вынес на суд заграничной общественности и получил за него Нобелевскую премию. Вот почему, когда обстоятельства сложились так, что надо было или разойтись с партийной линией, или выступить на общемосковском собрании, обсуждавшем поведение Б. Пастернака (не содержание романа «Доктор Живаго», а, как хитроумно формулировалась повестка дня, именно поведение автора!), Слуцкий после колебаний согласился.
Правда, был еще и третий путь, избрать который советовал ему кое-кто из друзей, сам на сей раз счастливо избежавший горькой чаши. Словчить, увернуться, сказаться больным. Тем более что Слуцкий — полуинвалид, и больничный лист безотказно ждал его в любую минуту.
Так, кстати, и поступили иные литераторы, впоследствии даже кичившиеся своей отвагой. Но Слуцкий не любил третьих путей, он был слишком правильный. К тому же он дал уже связать себя словом: выполняя поручение партийного бюро, говорил с беспартийным поэтом Леонидом Мартыновым о возможности выступления того на собрании. И Леонид Мартынов, любимый художник и близкий друг, спросил в упор: «А вы выступать будете?» Теперь увильнуть, спрятаться, скрыться не позволяла совесть. Он сам отрезал себе единственный выход.
Четвертого пути — взойти на трибуну и произнести речь в защиту Б. Пастернака — не существовало. Это противоречило бы собственным его взглядам и убеждениям.
Позже, в сотый и тысячный раз вспоминая случившееся
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн