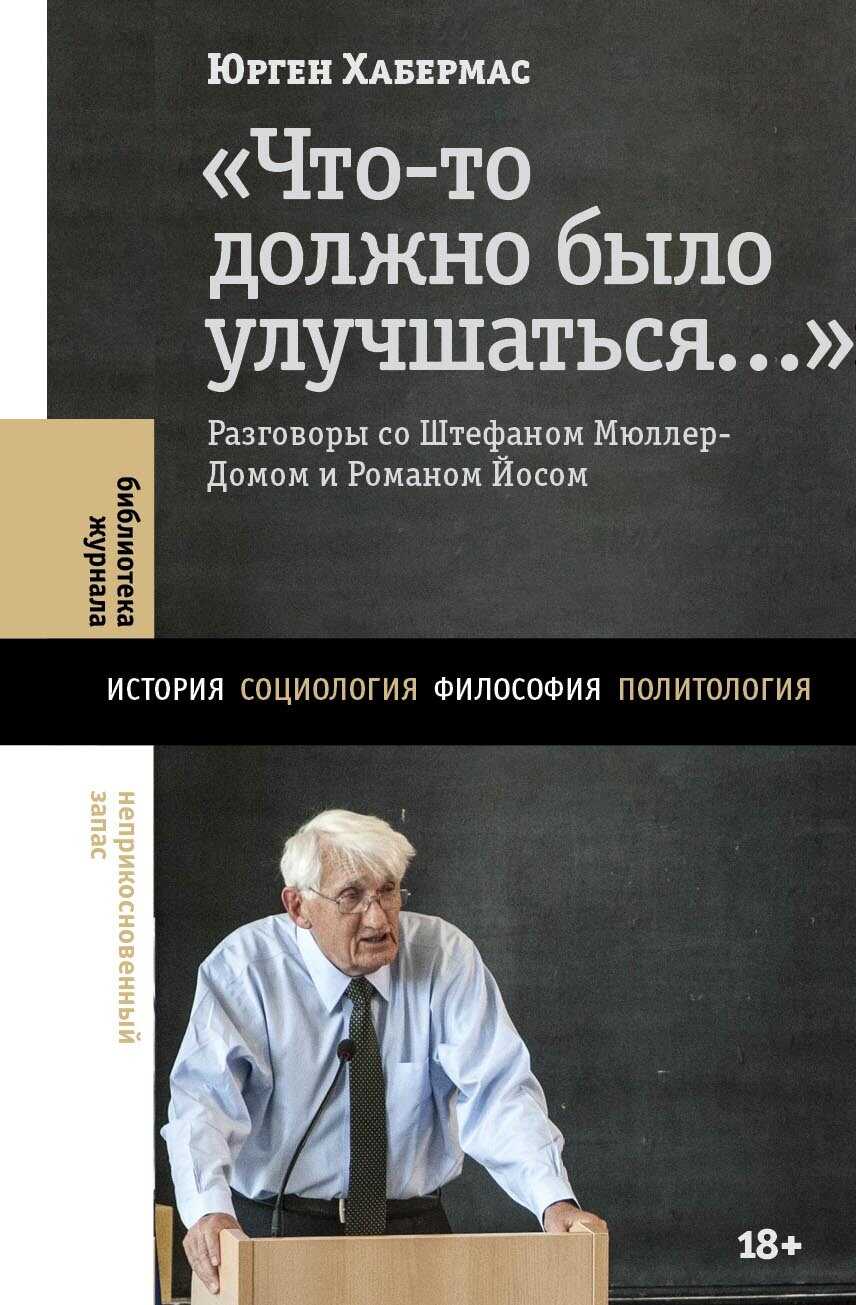Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"
Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
Возвращаюсь ко взаимоотношениям философии и науки: при всем моем скептицизме я все же верю, как и прежде, что, например, по нерешенным вопросам о происхождении языка специальные дисциплины вполне могли бы взаимодействовать с философией и это только пойдет им на пользу. Такие ожидания, кстати, вполне совместимы с нынешним представлением (а оно изменилось за последние годы и опять приблизилось к традиционному) о разграничении функций между философией и науками. Эмпирические науки с их объективирующим взглядом на факты из методически определенной предметной области в целом отличаются от философии с ее рефлексивным взглядом на имплицитно воспринятые субъективные предпосылки. Не бывает какого-то view from nowhere: то, что мы с полным основанием именуем «познанием», – это и есть единственная возможная форма познания. Другой формы просто нет: ни в науке, ни в философии. Именно так нам и следует понимать суждение об исключительном смысле познания. Впрочем, сама общественная теория, обоснованная у Гегеля и Маркса, – о ее структурных особенностях мы уже говорили, – это в большей степени исключение, если рассматривать ее в плане разграничения функций между философией и наукой. Даже блуждание мысли есть часть философии как «неопределившегося мышления». В целом для философской перспективы более всего характерен рефлексивный поворот: она пытается выяснить, что для нас означает динамически нарастающее знание о мире.
Итак, философия противопоставлена общественно-научному объективизму, но тем не менее исторически два полюса могут смыкаться (Фрейд, Пиаже, Мид); здесь нам все ясно. Но когда перед нами открывается россыпь этих, если угодно, «постгегельянских звезд», то еще возрастает в своем значении вопрос о том, чем же именно постметафизическое мышление отличается от метафизического и как они друг с другом соотносятся. Стоит ли считать, что одно мышление замещает собой другое?
Предлагая этот термин, я совершенно не подразумевал какого-то драматизма; я всего лишь употребил на практике ту теоретическую интерпретацию, которую предлагали мои коллеги (Апель, Рорти, Тугендхат): историю философии, говорили они, следует рассматривать как последовательную очередность из трех парадигм. Сначала метафизику заменяет, соответственно, философия субъекта, а этой последней на смену приходит, в свою очередь, философия языка. Юм и Кант уже мыслили в «постметафизическом» духе; Кант и вовсе начинал прозревать предметные структуры мира как такового за проективным механизмом, обратно перенаправляющим интуитивно усвоенные черты жизненного мира. В метафизических построениях инфраструктура мира в целом тоже отграничивалась от явлений внутреннего мира с его событийностью, но так, что «Первосущее» и «Начало Всего», или «Вечное» и «Вечносущее» тоже, со своей стороны, опредмечивались и понимались по аналогии со всем явленным, с тем, что просто существует в мире. Метафизика (по существу – вплоть до Хайдеггера, хотя он уже мыслил исторически) тщетно билась над тем, чтобы на понятийном уровне провести корректные границы между, с одной стороны, Абсолютным, или Бытием, и с другой – конечным существованием в мире; дело в том, что Абсолютное неизбежно мыслится по прообразу мировых сущностей, а находятся эти две сферы неизменно в отношении res-res. Философия субъекта, в противоположность этому, возводит явления предметов в мире к операциям нашего сознания, обрабатывающего сигналы от органов чувств. Наконец, лингвистический поворот еще радикализирует этот разрыв с метафизическим опредмечиванием всех операций познающего субъекта: в субъективности ментальных операций, в для-себя-бытии того духа, что отражает или конструирует природу, вновь открывается нераспознаваемое опредмечивание языковых исполнений. Субъективность сознания, со своей стороны, конституируется в ходе коммуникативной социализации, так что любой индивид уже находится в пространстве оснований, принадлежащих интерсубъективно-совместному жизненному миру, каковой, в свою очередь, пересекается с другими жизненными мирами. Даже в качестве отдельной, для себя существующей личности человек может возыметь свое бытие, лишь черпая силы из интерсубъективного пространства смыслов и оснований, общего для всех носителей языка: то есть, другими словами, из лингвистической инфраструктуры «своего» – но притом соразделенного между субъектами – жизненного мира.
Эта череда парадигм, как бы то ни было, восходит к определенному процессу обучения, и, чтобы выявить его следы, я выдвинул концепцию пошаговой десоциализации картин мира[4], причем каждая из этих последних рождается как проекция неких черт фонового знания о жизненном мире (lebensweltlichen Hintergrundwissens), наличествующего только в перформативном смысле (это, собственно, фоновые черты коммуникативного действия), – проекция на мир как таковой. Картины мира, если рассматривать их ретроспективно, в процессе самокритики распадаются как собственно картины мира, а во всем том, что изначально понималось как присутствующее в мире, постепенно распознается субъективная выработка и в итоге – сама структура нашего жизненного мира, наличествующая только в перформативном смысле. Такая десоциализация начинается с мифических картин мира (которые я рассматриваю как один из типов реификации), а именно – со всеобъемлющей проекции черт коммуникативного действия и их фонового содержания на мир как таковой.
К подобному толкованию истории философии как генеалогии постметафизической мысли я в конечном счете пришел через формально-прагматический анализ базовых черт, в целом характеризующих социокультурные формы жизни социализированных субъектов[5]. Эти субъекты репродуцируют свой жизненный мир, через который они сообщаются с явлениями объективного (для них) мира, причем сообщение происходит в той мере, в какой затрачиваются сами ресурсы жизненного мира, то есть культурных традиций, социальных взаимосвязей и унаследованных компетенций: внутри этого и с помощью этого субъект занимает свое условное место в истории и в обществе. Это тоже, если угодно, антропологическая концепция. Следует, разумеется, добавить, что те мои коллеги, которых я причисляю к «постметафизикам», вовсе не обязательно согласятся с моим анализом самого понятия.
Кого можно считать потенциальными «партнерами по коалиции»? Какие философские системы внутри того спектра, который Вы обозначили как философский дискурс о модерне, выстроены на схожих предпосылках?
Сегодня есть множество философов, которые под «метафизикой» понимают совсем не то, что я сейчас описал. Мне кажется, что вы тоже до сих пор недооцениваете широту того философского мышления, которое зародилось в XIX веке на «постметафизических» (в моей терминологии) основаниях. Если, в качестве примера, взять американских коллег, то никаких «метафизических» (в моей терминологии) допущений я, допустим, не нахожу ни у Дональда Дэвидсона, ни у Дэниела Деннета, ни у Ричарда Рорти, ни у Джона Ролза, ни у Хилари Патнэма, ни у Джона Сёрла, ни у Роберта Брэндома, ни у Томаса Нагеля; у Тома Нагеля «постметафизика» особенно очевидна. Все это, как можно заметить, мыслители моего поколения, крайне влиятельные и в высшей степени между собой различные.
Изменился ли на сегодняшний день тот философский ландшафт, который Вы описали в своей книге «Философский дискурс о модерне»? Какие тенденции, на Ваш взгляд, вырисовываются в настоящее время?
Не буду даже пытаться ответить на этот вопрос. Долгое время я прикладывал все усилия, чтобы уследить хотя бы за главнейшими достижениями в центральных отраслях философии; старался я освоиться и с другими дисциплинами, когда это казалось необходимым для разработки интересующих меня вопросов: помимо социологии, я затрагивал некоторые разделы лингвистики, теории права, политологии, антропологии, психологии развития и даже теологии. Но с возрастом приходит некий эгоцентризм; я, во всяком случае, сконцентрировавшись на своей последней книге, стал гораздо меньше усваивать новое, так что теперь уже сам не доверяю собственным суждениям о нынешнем состоянии нашей профессиональной области.
А как бы Вы вписали Вашу философию коммуникативного разума в современный философский ландшафт?
История влияния философских произведений – это тема очень широкая. К рецепции моих сверстников я отношусь скептически. И в том, что касается центрального содержания моей собственной теории, оптимизма у меня не больше. Не хватает некой центральной
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут