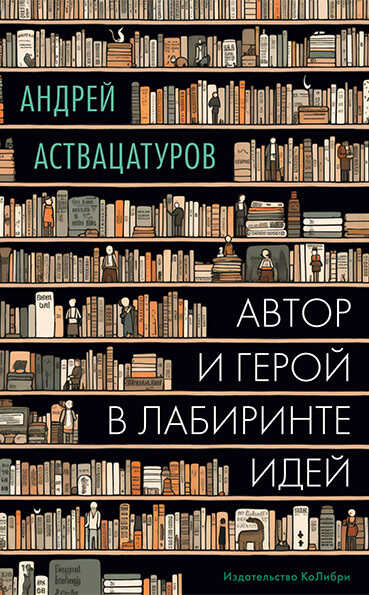Читать книгу - "Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров"
Аннотация к книге "Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Имя Андрея Аствацатурова, литературоведа, профессора СПбГУ, хорошо известно не только в профессиональной филологической среде: он автор книг и статей об англо-американской литературе, романов «Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах», «Не кормите и не трогайте пеликанов». В новой книге Андрей Аствацатуров обращается к творчеству классиков ХХ века, а также современных русских писателей.Сочетание серьезной проблематики и увлекательной манеры изложения, благодаря которому Аствацатуров известен как блестящий лектор, присутствует и в его литературоведческих работах. Виртуозный анализ позволяет увидеть парадоксы, казалось бы, в хрестоматийных произведениях англо-американских модернистов – Генри Миллера, Эрнеста Хемингуэя, Джерома Дэвида Сэлинджера, Курта Воннегута, Джона Апдайка. А современные русские авторы самым неожиданным образом оказываются их наследниками: в уголовном рассказе Романа Сенчина проступает сюжет «Трамвая „Желание“» Теннесси Уильямса, а летописец русского зарубежья Андрей Иванов предстает русским Генри Миллером. Книга адресована широкому кругу читателей – и филологам, и тем, кто хотел бы лучше понимать произведения мировой классики, познакомиться с самыми яркими именами современной русской литературы и ощутить прихотливую логику литературного процесса.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Качество сильного ученого во многом зависит от его учителей, от той научной традиции или среды, которая его формирует, из которой он вырастает и с которой в итоге вступает в единоборство. И чем сильнее такая традиция, тем, безусловно, значительнее его вклад в науку вне зависимости от того, принимает он эту традицию или отвергает.
Мне, поступившему в ЛГУ в середине 1980-х, филфак напоминал курсы иностранных языков, где заодно читались общефилологические дисциплины. На западные отделения (английское, немецкое, испанское) поступали главным образом затем, чтобы выучить иностранный язык и подыскать потом оплачиваемую работу: переводчики (военные и гражданские) и экскурсоводы «Интуриста» в те годы очень неплохо зарабатывали. Во второй половине 1960-х, когда отец поступил на филфак, ситуация была несколько иной. Филфак постепенно прагматизировался, но его атмосфера по-прежнему сохраняла присущий дореволюционному университету академизм, ориентированность на научное знание. Академический контекст, в котором оказался студент Алексей Аствацатуров, было принято называть ленинградской филологической школой. Школа не имела внятных методологических установок, но впечатляла яркими именами. Еще были живы и работали классики русской филологической науки: В. М. Жирмунский, М. И. Стеблин-Каменский, М. П. Алексеев, В. Я. Пропп, О. К. Васильева-Шведе, Б. Г. Реизов, П. Н. Берков. Русскую литературу читали Д. Е. Максимов, В. А. Мануйлов, Г. П. Макогоненко, Б. Ф. Егоров, зарубежную – В. Е. Балахонов, М. Л. Тронская, Е. И. Клименко. Классическую – А. И. Доватур, Я. М. Боровский. На филологическом факультете проводил занятия Е. Г. Эткинд, литературовед, стиховед, переводчик, чьи лекции пользовались неизменной популярностью и собирали большие аудитории. Но безусловной легендой тех лет был профессор Г. А. Бялый; он вел спецкурс, посвященный Достоевскому, на который собиралось столько народу, что даже огромный актовый зал филологического факультета не мог вместить всех желающих.
Ученые, преподававшие на филологическом факультете, демонстрировали самые разные подходы к проблемам языка и литературы, но их исследования и лекции объединяла строгая установка на поиск научной истины, желание выработать универсальное видение проблемы, которое могло бы стать основной интерпретационного консенсуса. Диссертации, кандидатские и докторские, защищались поздно, уже в зрелом возрасте и даже ближе к пенсии. Над книгами, статьями и учебниками работали годами, нередко десятилетиями, добиваясь предельной основательности и точности. Но пожалуй, главным качеством подлинного ученого тех лет считалась его универсальность, которая предполагала широту интересов и энциклопедизм, понимание не только узкопрофильных проблем Представители ленинградской филологической школы в этом смысле ориентировались на своих учителей, которые занимались научными исследованиями в те годы, когда филология был наукой, а не системой наук, как сейчас. Образцом для Алексея Георгиевича Аствацатурова в этом смысле был академик В. М. Жирмунский, работавший одновременно в области истории литературы, поэтики, стиховедения, лингвистики, востоковедения. Тем не менее процесс специализации науки, ее разделения на различные области, к тому времени уже слабо связанные друг с другом, постепенно захватил гуманитарное знание, в частности филологию.
Существенно и то, что многие в этом академическом сообществе обладали безупречным эстетическим вкусом – тем свойством, которое всегда отличало ленинградского (петербургского) интеллигента. Вкус есть эстетическое чувство, единовременное ощущение культурной традиции в ее высоких проявлениях. Он складывается из усвоенных шедевров мировой культуры. Именно вкус, живое ощущение эстетической силы художественного памятника как органического целого, а не просто знание о нем как о тексте, делал ученого подлинной личностью и подлинным учителем. Мой отец, как и его учителя, в полной мере обладал этим свойством, безусловным эстетическим вкусом, сохраняя его и отстаивая его необходимость в ту эпоху, когда это понятие стало вроде как неуместным, неактуальным и ассоциировалось с эстетическим ретроградством. И, кроме того, его научные интересы, как и интересы многих его учителей, поражали своим разнообразием: философия, эстетика, поэтика, история литературы, антропология, музыка.
Свой путь филолога Алексей Аствацатуров выбрал самостоятельно: его никто к нему не подталкивал, ни школа, ни семья. Родители, Георгий Николаевич Аствацатуров (1909–1984) и Елена Алексеевна Керженцева (1917–1996), были врачами, высококлассными специалистами, оставившими после себя учеников. Они воспитывали сына в лучших традициях советских интеллигентных семей: поощряли его интерес к литературе, к классической музыке, искренне надеясь, что эти увлечения не помешают сыну стать хорошим невропатологом или хирургом. Когда сын сообщил им о своем желании поступать на филологический факультет, они были слегка разочарованы и все же, уважая его выбор, не стали отговаривать.
С первыми университетскими учителями Алексею Аствацатурову несказанно повезло: германистика на филологическом факультете считалась очень сильной. Практический немецкий язык вели такие опытные преподаватели, как Елизавета Альбертовна Данциг, Маргарита Георгиевна Арсеньева, Алиса Павловна Хазанович, аналитическое чтение – Нина Александровна Жирмунская, теоретические дисциплины по лингвистике – Владимир Михайлович Павлов, спецкурсы по литературе – Мария Лазаревна Тронская и Борис Яковлевич Гейман. Круг интересов Алексея Аствацатурова сформировался почти сразу. Это были поэты, прозаики, мыслители романтических школ: Клейст, Гофман, иенские и гейдельбергские романтики. Он начал писать свои первые рефераты и курсовые работы, выступать с докладами на семинарах и студенческих конференциях. Уже в самых первых его исследованиях учителя заметили поразительные аналитические способности, умение филологически прочитывать художественные тексты, даже самые сложные, интерпретировать их сквозь призму философских и эстетических проблем. Впоследствии по мере взросления ученого эти способности, эти умения будут лишь усиливаться и неизменно сопутствовать поиску адекватной методологии.
Подобный поиск для ученых-гуманитариев того времени был чрезвычайно актуален. Тот метод, который декларировался литературоведами-чиновниками как единственно верный (историко-литературный), якобы основанный на принципах марксизма-ленинизма, устраивал далеко не всех, особенно представителей молодого поколения 1960-х годов. Будучи человеком образованным и ориентированным в немецкой классической мысли, отец, как и многие его товарищи, прекрасно понимал, что принципы современной ему филологической науки ничего общего с марксизмом не имеют. Более того, адепты подлинно живого марксизма, такие как Д. Лукач и Эрнст Блох, подвергались в советской прессе резкой критике, и фактически от марксизма оставались лишь цитаты из классиков, дежурно открывавшие едва ли не каждое гуманитарное исследование. Академической науке о литературе, несколько забуксовавшей в старых методологических приемах, нужны были новые пути, новые подходы, более четкие, более строгие, способные обнаружить новые, неожиданные стороны в художественных текстах. Однако советская наука очень собой гордилась и обновляться не стремилась. Более того, все методологически новое нередко воспринималось как чуждое, вредное, мелкобуржуазное, реакционное и идеологически подрывное. Подобные проблемы касались не только литературы, но и науки о литературе.
Не секрет, что многие авторы, даже классические, оценивались как идеологически вредные. Именно так долгое время аттестовали иенских и гейдельбергских романтиков, Кольриджа, Вордсворта и многих других классиков. На русский язык не решались переводить даже трактаты Джона Мильтона, в которых речь шла о свободе совести. «Ошибки» классиков предписывалось выявлять, критиковать, что обычно и делалось, причем
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн