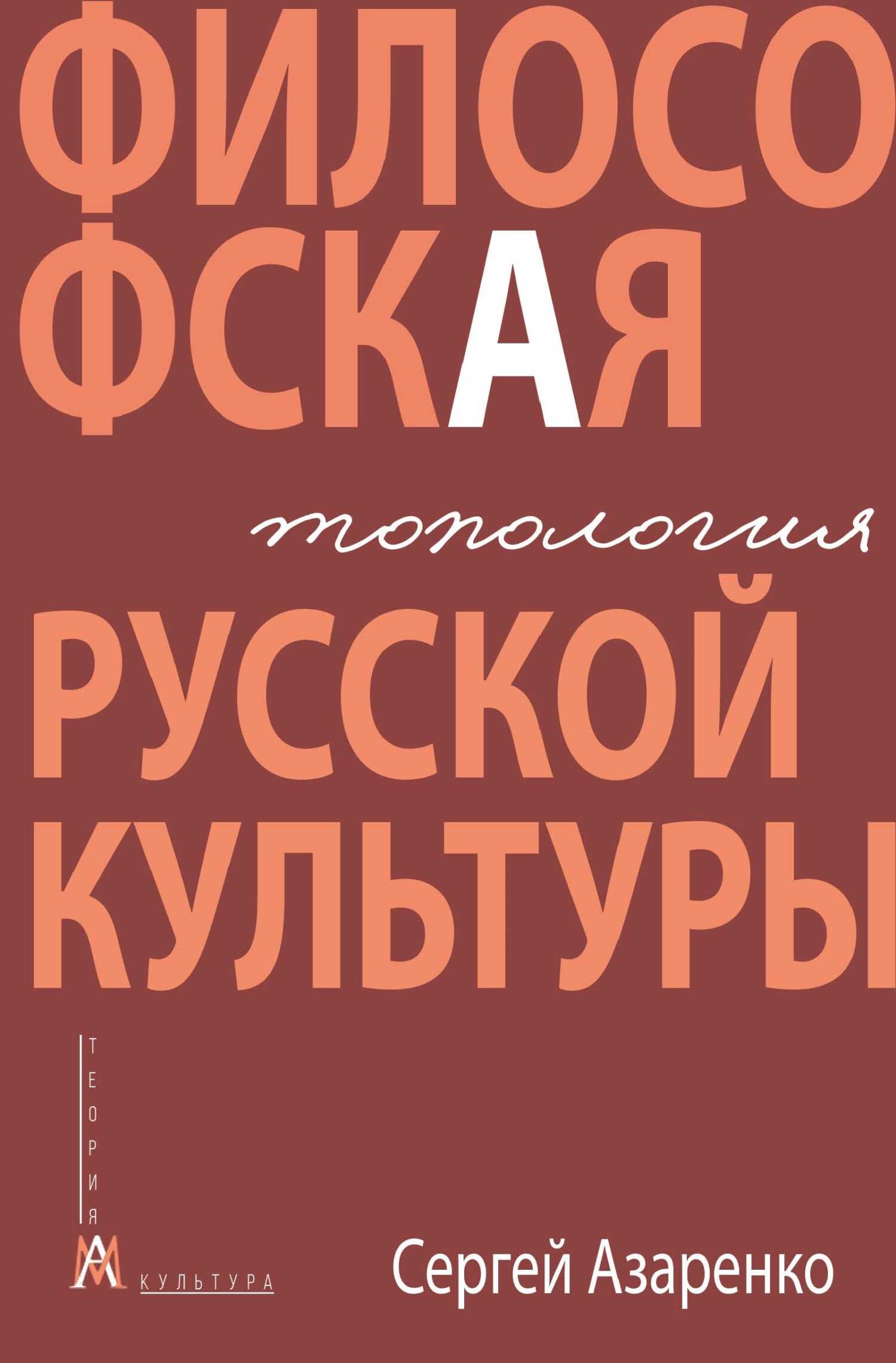Читать книгу - "Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко"
Аннотация к книге "Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В книге обосновывается топология культурного воспроизводства на материале русской культуры. Рассматривается не просто «место» культуры, а «сов-местность» человеческого способа существования, порождающего определенный тип телесности и соответствующий ему способ коммуницирования. Раскрывается единая логика конституирования пространственных и телесных компонентов культурного воспроизводства. Основной пространственный параметр России – ширь и даль, что нашло свое выражение в широте русского характера, в «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке», в одноголосом знаменном русском церковном пении, звучавшем в православных церквах. Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных специальностей, а также всем тем, кто интересуется проблемами культуры и современной философии.
4.4. Топологика русских место-имений
Иностранцу кажется непонятным, почему в русском способе говорения представляется обычным, когда молодой человек может незнакомого взрослого назвать «отцом» или «матерью», а взрослый человек незнакомого молодого может назвать «дочкой» или «сынком». Этим выражается доброжелательность и стремление приблизить далекое, а также обнаруживается совместная расположенность в человеческом. Это черта русского характера – присутствуя при чьем-то горе, выражать сожаление не только в адрес потерпевшего, но, возможно, прежде всего в отношении его братьев и сестер, родителей и жен. То есть делать акцент не на ком-то одном, а на его сопричастности родным. Родненький, родименький, сестренка, сынок – привычные слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами для этого случая в русской культуре. «Я» для русских – «последняя буква в алфавите». Уже в этом определении просвечивает социальное существо Я: указывается его место в ряду других «букв». Однако нам необходимо увидеть социально-топологическое измерение Я, вскрываемое только через его пространственную связь с Другим, с Ты и Он.
В арсенале русской культуры наряду со словом «народ» имеется такое слово, как «человек», которое отлично и от немецкого Geschlecht и от das Mann. Последнее немецкое слово нельзя перевести на английский язык буквально. В немецком оно употребляется так же, как и английское местоимение оnе в безличных предложениях, и обозначает крайне неопределенную общность человеческих существ. Das Mann – это не я и не вы, это не тот человек и не этот, а в некотором роде все люди, но в таком обобщенном смысле, когда «все» превращается в «никто». В хайдеггеровском понимании das Man связан с понятиями аутентичности и неаутентичности. Существовать аутентично – это значит жить, осознавая уникальность своей индивидуальности. Неаутентичное существование подразумевает растворение себя в анонимности das Man в пользу социально конституированных абстракций. Различие проявляется с особой силой в том, что умирает всегда конкретный человек и умирает в одиночку.
Общество утешает тех, кому предстоит вскоре умереть, относя каждую смерть под общие категории, заслоняющие от нас страх смерти. Когда кто-нибудь умирает, мы говорим, что когда-нибудь все мы там будем. Это «все мы», в котором присутствует каждый, и потому никто конкретно, и есть точный перевод das Маn (В. Бибихин переводит как «люди»). Русское слово «человек» отличается от данного немецкого слова, поскольку в нем присутствует указание и на индивидуальную, и на родовую принадлежность человеческого субъекта. Хотя и данная номинация также является объектом самых различных политических и культурных искажений.
Симптоматично, что именно в рамках немецкой традиции делаются теоретические попытки преодоления субъективистского толкования. Я.Э. Гуссерль стремится трансцендентальную субъективность расширить до интерсубъективности, до интерсубъективно-трансцендентальной социальности, которая, по его соображениям, должна являться трансцендентальной почвой для интерсубъективной природы и для мира вообще. Поднимая тему ego, он отмечает его множественность, представленную Я воспринимаю, Я вспоминаю, Я желаю и т.д., и одновременно с этим его множественные модусы имеют точку тождества, и это проявляется в том, что Я, одно и то же Я сначала осуществляет акт Я мыслю, затем – акт Я оцениваю как видимость и т. д.
Таким образом, имеется ego не как голый пустой полюс, но именно как постоянное и устойчивое Я оставшихся убеждений, привычек, в изменении которых впервые конституируется единство личностного Я и его личностного характера. Но не приводит ли редуцирование себя с помощью эпохи к моему абсолютному ego и не становится ли Я тем самым solus ipse? Всматриваясь в ego, мы обнаруживаем в нем alter ego, ибо я ведь имею других в опыте, и имею их не только наряду с природой, но и как сплетенных с ней в единство. «При этом, однако, я имею других в опыте особенным образом, я имею их не только как появляющихся в пространстве и психологически вплетенных в связь природы, но имею их точно так же имеющих в опыте этот же самый мир, который имею и я, и точно так же имеющих в опыте меня, как и я их имею… Я в самом себе, в рамках моей трансцендентальной жизни сознания испытываю все и каждое, испытываю мир не только как мой частный, но как интерсубъективный, как для каждого данный и доступный в его объектах мир, а в нем – других как других и одновременно – как друг для друга и для каждого наличных»[125].
Продолжая линию феноменологического рассмотрения, Я.Г. Шпет отмечает, что «принятый способ различения значений слова „Я“ состоит в мнимо последовательном переходе от некоторого более общего к более специальному его значению»[126]. Под Я обычно понимают вещь среди вещей окружающего нас мира – так, Я живу на такой-то улице, Я занимаю некоторое социальное положение и т.п. От этого Я переходят к так называемому Я психофизическому, где под ним понимают психофизический организм, реагирующий на раздражения, которые исходят из среды этого организма, и, в свою очередь, обнаруживающий действия и движения, порождаемые внутренними силами организма. Восприятие или активное действие человеческой психики относят к «душе» как носителю душевных сил и состояний человека, что приводит к определению самой души как другому значению Я.
Обращает на себя внимание аналогия этих значений, состоящая в ограничении сферы Я через расширение противопоставляемой ему «среды». При этом за Я сохраняется значение некоторого источника самостоятельного действия. В других случаях Я приписывается несамостоятельное, абстрактное значение, смысл которого полагается в определенных предпосылках философского субъективизма. Я как субъект в этом случае противопоставляется объекту познания или поведения или вообще сознания. Последовательность перехода от одного значения к другому, таким образом, нарушается, и если в первых трех случаях аналогия сколько-нибудь оправдывает применение термина Я, то употребление его в значении «субъекта познания» оправдано быть не может.
Эмпирическое Я есть всегда «вещь»
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн