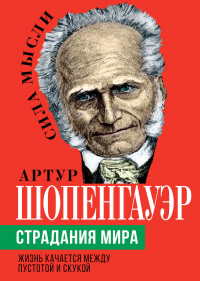их причинная связь непонятна. Понятность причинности уменьшилась: что при меньшей теплоте становилось жидким, при большей – испаряется; что при меньшей теплоте кристаллизируется, при большей – плавится. Теплота делает воск мягким, а глину – твердой; от света воск делается белым, хлористое серебро – черным. Хотя бы только две соли разлагали одна другую и возникали две новые – химическое сродство их является для нас глубокою тайной, и свойства двух новых тел не есть сумма свойств их отдельных элементов. Тем не менее здесь мы можем еще проследить химический состав и показать, из чего возникли новые тела; мы можем также и снова разложить получившееся соединение, восстановив при этом и прежнее количество. Итак, между причиною и действием обнаружилась в данном случае заметная разнородность и несоизмеримость; причинность стала более таинственной. Оба эти явления заметны еще в большей степени при сравнении действий электричества или вольтова столба с их причинами – трением стекла или наслоением и окислением пластинок. Здесь исчезает уже всякое сходство между причиною и действием; причинность скрывается под густое покрывало, которое с величайшим усилием старались хоть несколько приподнять люди вроде Дэви, Ампера, Фарадея. Здесь можно подметить еще только
законы того порядка, в котором действует причинность, и выразить их какой-нибудь схемой, например, +E и – E, сообщение, разобщение, удар, воспламенение, разложение, заряжение, изоляция, разряжение, электрический ток и т. п.; к такой схеме мы можем сводить действие, а также и произвольно руководить им, – но самый процесс остается неизвестным, X. Здесь, таким образом, причина и действие совершенно разнородны, связь их непонятна, и тела обнаруживают большую восприимчивость к такому каузальному влиянию, сущность которого остается для нас тайной. Равным образом, по мере того как мы поднимаемся вверх по мировой лестнице, нам кажется, что действие играет все бо́льшую роль, а причина – все меньшую. Оттого мы еще более встречаемся со всеми этими явлениями, когда восходим до органических царств, где проявляется феномен жизни. Если, как это делают в Китае, наполнить яму гниющим лесом, накрыть его листьями с того же дерева и все это полить несколько раз раствором селитры, то возникнет богатое произрастание съедобных грибов. Клочок сена, политый водою, порождает целый мир быстро движущихся инфузорий. Как разнородно здесь действие с причиною и насколько, по-видимому, больше заключается в первом, нежели в последней! Между семенем, которое насчитывает иногда столетия и даже тысячелетия, и деревом; между почвою и специфическим, столь многообразным соком бесчисленных растений, то целебных, то ядовитых, то питательных, которые растит одна и та же почва, освещает одно и то же солнце, поливает один и тот же дождь, – не существует более никакого сходства, и оттого мы перестаем здесь понимать. Ибо причинность выступает здесь уже в более высоком качестве – именно как раздражение и восприимчивость к нему. У нас остается лишь схема причины и действия: одно мы познаем как причину, другое – как действие, но ничего мы не знаем о самом характере и сути причинности. И не существует здесь не только качественного сходства между причиной и действием, но и количественного соотношения. Все больше и больше кажется, что действие более значительно, чем причина; и действие раздражения возрастает также не в меру усиления последнего, а часто – наоборот. Когда же, наконец, мы вступаем в царство
познающих существ, то между действием и предметом, который как представление вызывает его, совершенно исчезает всякое сходство и всякое соотношение. При этом у животного, ограниченного
наглядными представлениями, необходима еще наличность объекта, который действовал бы как мотив; последний действует мгновенно и неизбежно (оставляя в стороне дрессировку, т. е. привитую страхом привычку), так как животное не в состоянии вынашивать в себе ни одного понятия, которое делало бы его независимым от впечатлений настоящего, давало бы ему возможность суждения и сообщало ему способность к преднамеренным поступкам. Всем этим обладает человек. Таким образом, у совершенно разумных существ мотивом является даже не что-либо наличное, наглядное, непосредственно данное, реальное, а только чистое понятие, существующее в данный момент исключительно в мозгу действующего лица, но отвлеченное из многих разнородных интуиций, из опыта минувших лет, или же переданное словесно. Раздельность причины и действия стала здесь до того велика и действие сравнительно с причиной так сильно возросло, что грубому уму кажется даже, будто здесь не существует уже никакой причины и будто волевой акт не зависит решительно ни от чего, – безосновен, т. е. свободен. Потому-то и движения нашего тела, когда мы, рефлектируя, смотрим на них со стороны, представляются нам как нечто, происходящее без причины, т. е., собственно, как некое чудо. Только опыт и размышление научают нас тому, что движения эти, подобно всем другим, возможны лишь в силу известной причины, которая в данном случае называется мотивом, и что в прослеженной нами мировой градации причина только по своей материальной реальности отстала от действия, по реальности же динамической, по энергии, она продолжала идти с ним рядом. Таким образом, на этой ступени, самой высокой в природе, понимание каузальности покинуло нас более, чем где бы то ни было. Осталась одна только голая схема, взятая в самом общем виде, и необходима зрелая рефлексия, для того чтобы и в данном случае сознать ту пригодность и необходимость, которые эта схема повсюду влечет за собою.
Но как, идя по гроту Позилиппо, попадаешь все в бо́льшую темноту, пока на полдороге дневной свет не начнет освещать пути с другого конца, – так точно и в данном случае: когда свет рассудка, обращенного со своей формой причинности на внешний мир, все более и более побеждаемый тьмою, дает уже под конец одно слабое и неверное мерцание, тогда навстречу ему идет озарение совершенно иного рода, совсем с другой стороны, именно из нашего собственного внутреннего мира, – в силу того случайного обстоятельства, что мы, рассуждающие, в данном случае как раз сами являемся и объектом своего рассуждения. Для внешней интуиции и действующего в ней рассудка все увеличивающаяся затруднительность первоначально столь ясного понимания причинной связи мало-помалу настолько возросла, что в действиях животного характера последняя сделалась уже почти сомнительной, отчего и позволяла видеть в них какое-то чудо, но именно в этот момент с совершенно другой стороны, из собственного «я» наблюдателя является непосредственное понимание того, что в действиях животного характера действующим началом служит воля, та самая воля, которая для наблюдателя известнее и ближе всего того, что может доставить ему какая бы то ни было внешняя интуиция. Это сознание одно должно сделаться для философа ключом к проникновению во внутреннюю сущность всех тех процессов бессознательной природы, по отношению к которым причинное объяснение
 Ольга18 февраль 13:35
Измена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать
Измена. Не прощу - Анастасия Леманн
Ольга18 февраль 13:35
Измена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать
Измена. Не прощу - Анастасия Леманн
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш