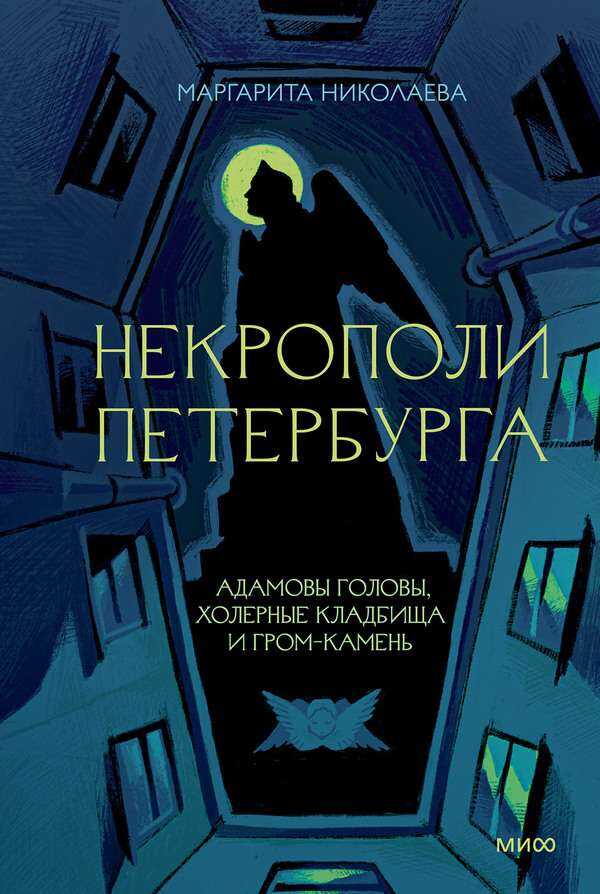Читать книгу - "Некрополи Петербурга: Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень - Маргарита Николаева"
Аннотация к книге "Некрополи Петербурга: Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень - Маргарита Николаева", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Краткая история петербургских кладбищ — от допетровских могильников до современных захоронений — показывает, как гробы, могилы и внешний вид памятников связаны с историей города и всей страны. Как связаны между собой гробы из досок и Петр I? А наводнение 1824 года и Гром-камень? Порой связи между некрополями Петербурга и окружающим их миром кажутся невероятными — о них вам и поведает эта книга.
Возможно, в ленинградском крематории планировали установить ту же печь, что и в московском, а именно печь немецкой фирмы Topf (J. A. Topf & Sohne, Erfurt). Гвидо Бартель писал, что «…лучшая постановка крематорного хозяйства и кремационного дела — в Германии, лучшие крематории — германские, лучшие системы кремационных печей — немецкие»[166]. Эти же печи использовались нацистами для массового уничтожения людей в концлагерях.
В конце заседания его участники пришли к выводу, что крематорий желательно открыть до 1930 года, но действовать нужно осторожно с учетом опыта Москвы и заграницы, также необходимым сочли провести деятельную пропаганду среди населения. В итоге, несмотря на все-таки объявленный несколькими месяцами позже конкурс, крематорий в Ленинграде так и не построили.
К концу 1920-х годов заинтересованность большевиков в кремации сошла на нет. На постройку крематориев и поддержание их работы требовалось немало средств, которых у государства не хватало. Кроме того, даже при наличии крематория в Москве немногие выбирали кремацию в качестве способа погребения. Отчасти это было связано с плохой работой крематория (нехватка топлива, дороговизна кремации), отчасти — с многолетней традицией погребения в землю. Немаловажным было отсутствие значимых для того общества людей, чьи тела были кремированы после смерти. Например, если бы тело В. И. Ленина после его смерти кремировали (вождь, кстати, был не против), то количество желающих быть кремированными, на наш взгляд, могло бы возрасти.
При этом отмечалось, что «…постройка крематория, как это показывает практика Москвы, отнюдь не разрешает вопроса о разгрузке городских кладбищ, по крайней мере на ближайшие десятилетия, пока не будут окончательно преодолены религиозные и бытовые предрассудки широких масс. Вследствие этого центр внимания должен быть обращен на усиление использования… загородных кладбищ с постепенной ликвидацией городских и обращением их в парки, каковыми они в сущности и являются для ближайшего населения, заполняющего все кладбища по праздничным дням»[167].
Интересно, что в 1921 году сочли недопустимой «ни с экологической, ни с политической точек зрения» предполагаемую вырубку деревьев на Богословском кладбище, поскольку «…при будущей перепланировке Петрограда [кладбища] войдут как составная часть в так называемый “зеленый пояс”, который должен предохранять город в его жилой зоне от вредного влияния дыму и копоти фабричных и заводских предприятий, выносимых по перепланировке на периферию»[168]. Годом позже Похоронное отделение возбудило ходатайство о приравнивании пользования кладбищами к садам — то есть идея о превращении городских кладбищ в парки и сады существовала с самого начала 1920-х годов.
В отсутствие крематория захоронения продолжались привычным способом на кладбищах, хотя отмечалось, что городские кладбища являются умирающим фондом. Эта несколько пафосная, но все же весьма правдивая фраза как нельзя лучше характеризовала то, что происходило на ленинградских кладбищах в конце 1920-х. Выше мы неоднократно говорили о разрушениях, сопровождающих некрополи в течение всего десятилетия, однако на рубеже 1920-х годов это стало особенно очевидным — утраты фиксировались в официальных документах. Например, в мае 1928 года в Похоронное отделение был подан рапорт со следующим содержанием: «…вообще за последнее время участились случаи хищения на кладбище [Смоленском лютеранском. — Прим. авт.], стали ломать решетки склепа, кресты чугунные с целью добычи свинца и тем приводят в разрушение места. Все это происходит из-за неимения охраны на кладбище. Так как таковой действительно не имеется»[169]. На пригородных кладбищах ситуация была не лучше: на Благовещенском кладбище в Старой Деревне мало того, что памятники и склепы находились в полуразрушенном состоянии, так и некоторые склепы были открыты, и в них находились останки трупов в разбросанном виде и в воде.
Однако наиболее показательным, на наш взгляд, является пример пригородного Тентелевского кладбища, находившегося недалеко от Митрофаньевских кладбищ. В июне 1928 года оно было осмотрено, в результате чего было установлено, что «…на кладбище сохранилось много имеющих архитектурное значение памятников XVIII и XIX веков, которые, находясь без всякой охраны, разрушаются и растаскиваются»[170]. Представители Похоронного отделения, «…ставя своей задачей сохранить уцелевшие памятники от дальнейшего разрушения»[171], обратились за консультацией в Музей города.
Тентелевское кладбище на плане города, 1913 (справа).
Wikimedia Commons
Меньше чем через месяц Музей города сообщил, что памятники Тентелевского кладбища следует разбить на три категории для их дальнейшего использования:
1) часть перенести в существующие парки для их украшения;
2) часть передать в Музей города;
3) остальные использовать как материал.
Музей города был закрыт в том же 1928 году, поэтому, вероятно, ни одно надгробие сохранено не было. А использование надгробных сооружений в качестве паркового декора и памятников как строительный материал практиковалось не только на Тентелевском кладбище, это экстраполировалось абсолютно на все некрополи Ленинграда и его пригородов вне зависимости от их статусности. Так, например, выглядело в годы разрушений Никольское кладбище: «…очень живописное: почти девственный лес… Старые склепы здесь разрушали, а камни и мрамор выносили из кладбища. В одном месте я наткнулся на артель рабочих за завтраком. Они полукругом сидели на железной ржавой коробке с выбитыми стеклами…»[172] Сохранились и описания того, как рыли на Никольском могилы: «…взобравшись со своей работой на нашу могилу, закидав ее всяким мусором, досками, камнями… [рабочие кладбища. — Прим. авт.] прямо лепят чужую могилу к моей стене и изгороди»[173]. И это Никольское кладбище, когда-то одно из самых престижных в городе!..
Свидетели тех событий назвали эти разрушения работами по изъятию бесхозного материала для утилитарных требований промышленности и строительства и отмечали, что это дело на первых шагах своего развития было организовано плохо и в результате изъятия погибло много ценных художественных памятников. Не ясно, как это новое дело можно было поставить на правильные рельсы, ведь ценность того или иного памятника была весьма субъективной; куда более ценным являлся ансамбль кладбища, состоящий из множества надгробий и других архитектурных сооружений, нередко расположенных рядом по особому умыслу — например, из-за желания покойных быть погребенными рядом или из-за
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут