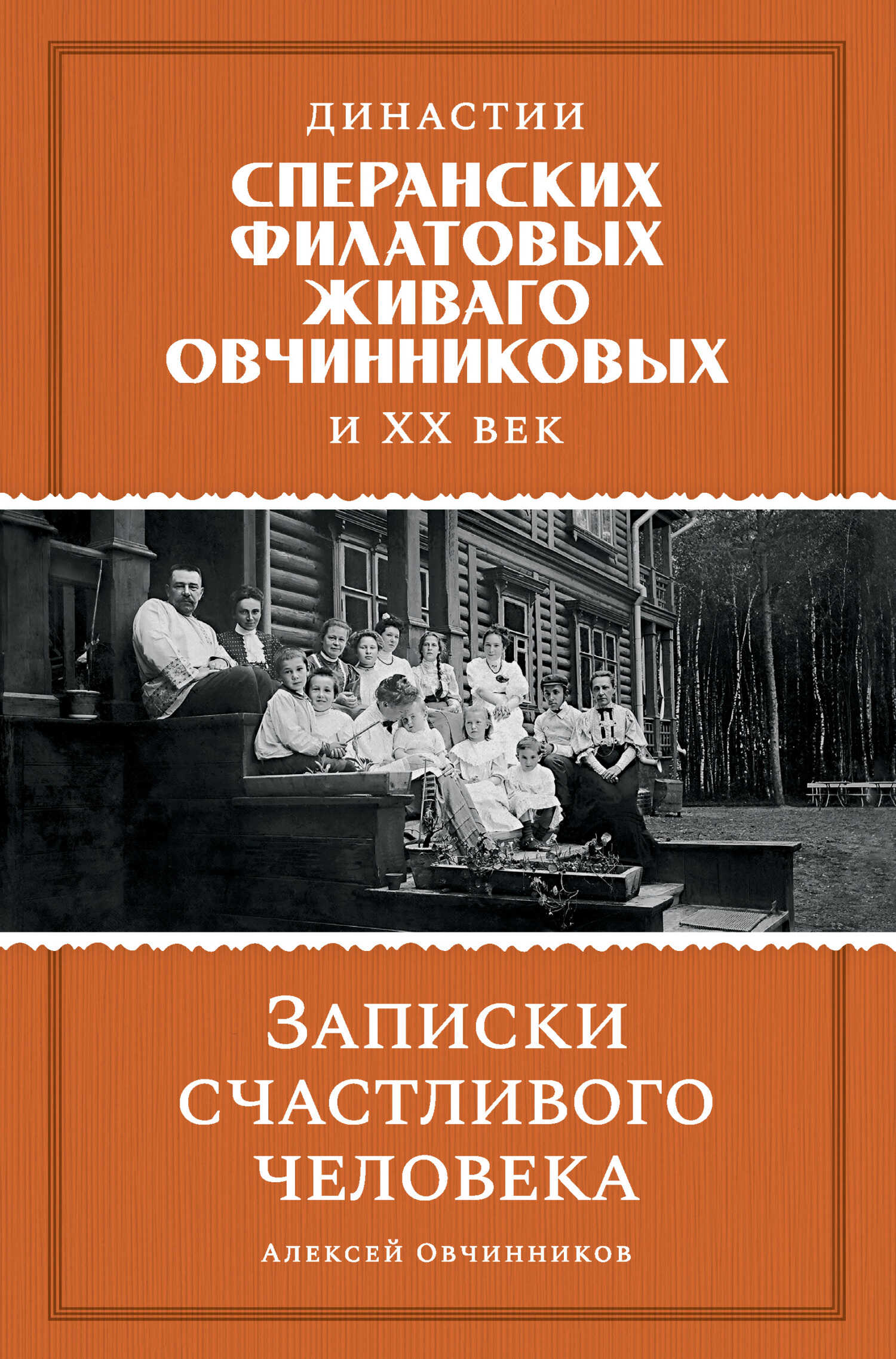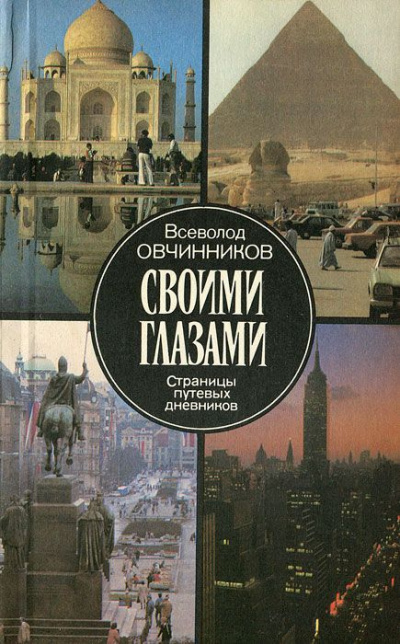Читать книгу - "Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека - Алексей Адрианович Овчинников"
Аннотация к книге "Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека - Алексей Адрианович Овчинников", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Четыре огромные династии – Сперанских, Филатовых, Живаго и Овчинниковых – предки замечательного доктора Алексея Овчинникова. Он написал историю своей семьи, очень живые воспоминания о своем деде, лучшем детском докторе нашей страны Георгии Сперанском, с кем прожил бок о бок долгие годы, и записки о собственной жизни, полной приключений, путешествий, спорта и, конечно, медицины. Это захватывающая картина жизни всего XX века.Все фотографии в книге – из личного архива автора.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Ботинки мне тоже достали номера на три больше моего размера, «на рост». Ботинки были американские, из военных запасов. Они заслуживают описания, ибо теперешние горнолыжники даже вообразить себе таких не смогут. В отличие от современных высоких горнолыжных ботинок из крепчайшей пластмассы с мягким внутренним вкладышем, намертво закрепляющих голеностопные суставы с помощью мощных металлических клипс, ботинки того времени, сшитые из кожи, легко размокающей во влажном снегу и требующей постоянной смазки, были очень низкими, на шнурках, и практически не фиксировали голеностопные суставы. На них передавалась вся нагрузка от длинных и тяжелых лыж во время поворотов и падений, поэтому растяжений связок и других травм голеностопных суставов не избежал ни один из горнолыжников того времени. Носы у ботинок были высокие и квадратные, а на пятке был сделан желобок для закрепляющей их пружины.
Крепления «Кандахар», на которых я начинал кататься, тоже не имели ничего общего с современными. Их можно сейчас увидеть только в лыжных музеях или на старых фотографиях. Носок ботинка закреплялся в металлических скобах с продетым в них ремнем. Несколько позже на скобах появились специальные рантодержатели, фиксирующие ботинки за выступающую подошву. Спереди от скоб на каждой лыже был укреплен карабин, почему-то называемый в простонародье «лягушкой». Он натягивал надетую на заднюю часть подошвы ботинка пружину, которая проходила через привернутые с обеих боковых сторон лыжи так называемые диагонали, или попросту – крючки. Такие крючки, укрепленные на уровне пятки, при натяжении пружины довольно плотно притягивали ботинок к лыже. Это было положение для спуска. Если пружина проходила только через вторые диагонали, укрепленные ближе к скобам, пятка ботинка свободно поднималась кверху. В этом положении можно было идти по ровному месту и преодолевать некрутые подъемы. Поднявшись в гору (о подъемниках тогда никто из нас не слышал), вдевали пружины в задние крючки-диагонали и закрывали карабины. Теперь можно было спускаться вниз.
В ту же зиму 1944/45 года отец, будучи уже больным туберкулезом, отвел меня на Шуколовскую гору, где показал повороты «из полуплуга» и современную тогда «христианию» на параллельных лыжах. Там же он познакомил меня со своими друзьями братьями Преображенскими, Юрием и Владимиром, которые великолепно катались на лыжах, особенно Володя, бывший к тому времени чемпионом Советского Союза по слалому.
Шуколовская гора, известная каждому москвичу, хотя бы немного катающемуся на горных лыжах, выглядела тогда совсем не так, как сейчас, когда я пишу эти заметки. Во-первых, было всего два спуска – «большая» и «малая» Шуколовки. Склон под названием «Вымя» появился много позднее. А теперешних гор с подъемниками, где катаются гости «клуба Тягачева», просто не существовало. Во-вторых, на склонах росло довольно много деревьев. Посередине большой Шуколовской горы стояла огромная старая ель, а внизу под горой были густые заросли ольхи. В этих зарослях прорубили три прохода. В соответствии с ними спуски с Шуколовки назывались первый, второй и третий. Первый – по относительно пологому плечу слева (если смотреть сверху), второй – через небольшой бугор справа от елки и третий – через глубокую «люльку» и крутой бугор с контруклоном, с которого самые лихие лыжники улетали метров на 15–20. Внизу, на выкате была еще одна «люлька», и за ней резкий бугор, с которого выкидывало на ровное место, причем некоторых – лыжами кверху. С обеих сторон этого спуска росло довольно много деревьев, в одно из которых я и влетел на полном ходу 13 марта 1960 года. Но об этом позже.
За перегибом горы не было видно, поднимаются ли лыжники по одному из этих спусков. Поэтому с вершины нужно было кричать стоящим на перегибе: «Посмотри по третьему!» или «Под елочкой!», иначе можно было вылететь прямо на человека, а скорость к середине горы набиралась довольно приличная. В последующие годы, приходя на гору осенью, мы полностью вырубили заросли ольхи под горой, но названия спусков, потеряв свой смысл, сохранились надолго. Вслед за спиленной старой елью постепенно исчезли и остальные деревья. Одно из них, самое виноватое передо мной, я спилил лично. А потом благодаря стараниям Клуба Тягачева, теперешних хозяев горы, был сильно изменен и рельеф склона, и старая Шуколовка осталась лишь в памяти немногих старожилов, к которым я по справедливости отношу и себя.
В первые послевоенные годы, когда я начинал ходить на Шуколовку, по выходным дням там собиралась небольшая, но теплая компания, человек 15–20. Все друг друга хорошо знали и здоровались, как лучшие друзья. А если кого-либо недоставало, всегда интересовались: «А что это Миша Меранский не пришел?» или «А почему Гены Меркелова нет?» и так далее. Именно поэтому мне очень нравилось кататься на Шуколовке, где я чувствовал себя как дома. Однако в начале следующей зимы отец решил отдать меня в спортивную секцию к своему другу, знаменитому горнолыжнику Дмитрию Ефимовичу Ростовцеву. После войны, прекратив участвовать в соревнованиях, он стал тренером горнолыжников ЦДКА, потом ЦДСА (Центрального дома Красной, позже Советской армии). Ростовцев – высокий, широкоплечий, крепкий мужчина, такой же, как и мой отец, почему-то называл отца странным именем Цех. Очевидно, это было как-то связано с временами их спортивной юности. Теперь об этом не узнать.
Ростовцев взял меня в детскую секцию и велел приходить на занятия через день, в том числе и по воскресеньям. Это меня очень огорчило, так как не позволяло бывать на моей любимой Шуколовке. «Лыжи-то есть? – спросил он у меня. – А то у нас с детскими лыжами плоховато. Ребят много, и катаются по очереди».
Горнолыжная база ЦДСА тогда располагалась в самом низу Воробьевых гор (позже переименованных в Ленинские), у самой реки, под домом отдыха Министерства обороны. Современной набережной тогда не было и в помине, и у самой воды стоял большой сарай, в котором хранились спортивные лодки. На них летом тренировались гребцы. Рядом была раздевалка для лыжников и склад горнолыжного инвентаря. Туда надо было спускаться по крутым тропинкам от трамплина. Не того огромного, который возвышается сейчас у смотровой площадки, а старого, деревянного, с которого прыгали метров на 30–40, не больше. Он стоял чуть поодаль, ближе к церкви. В те годы путь на Воробьевку был
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн