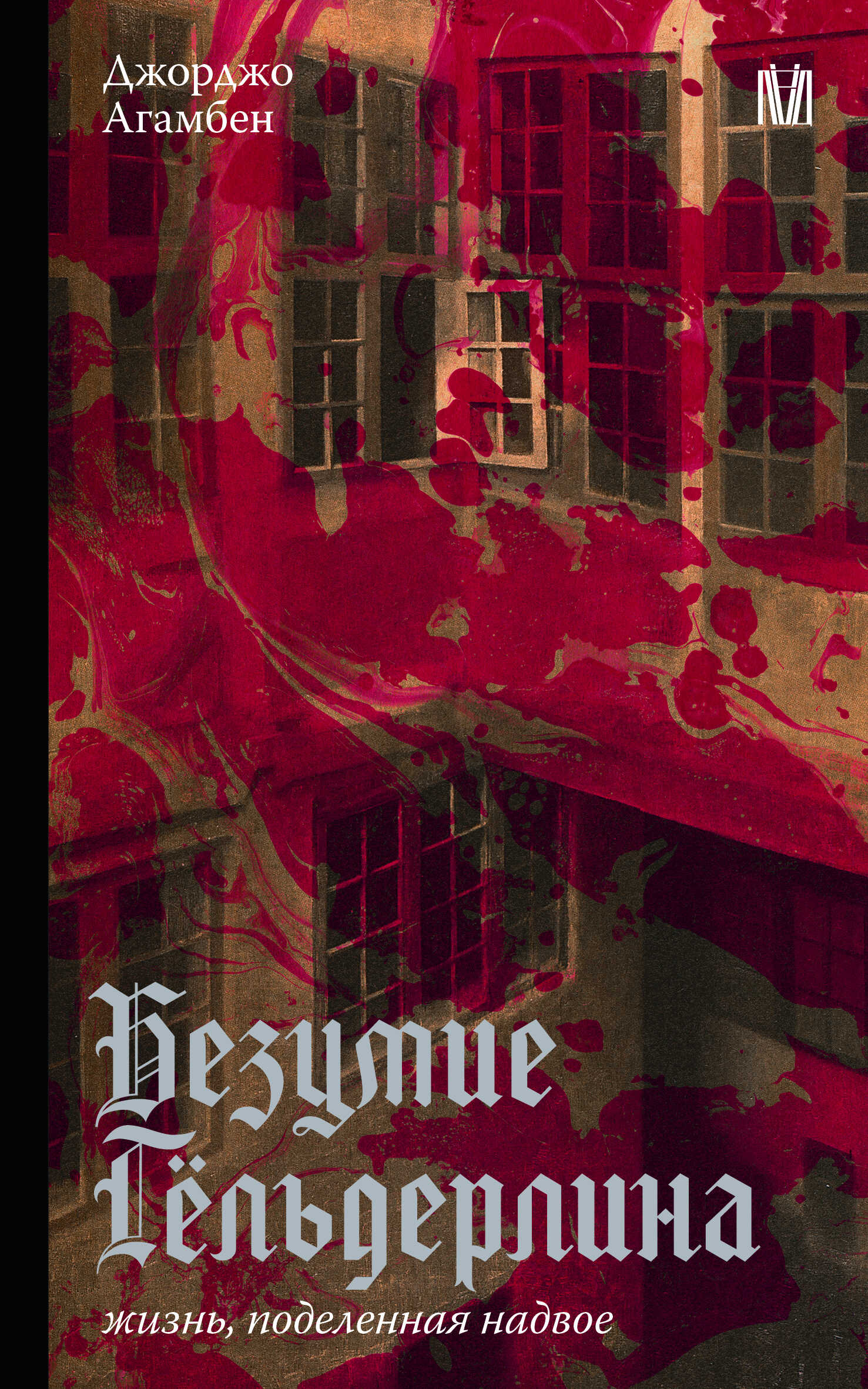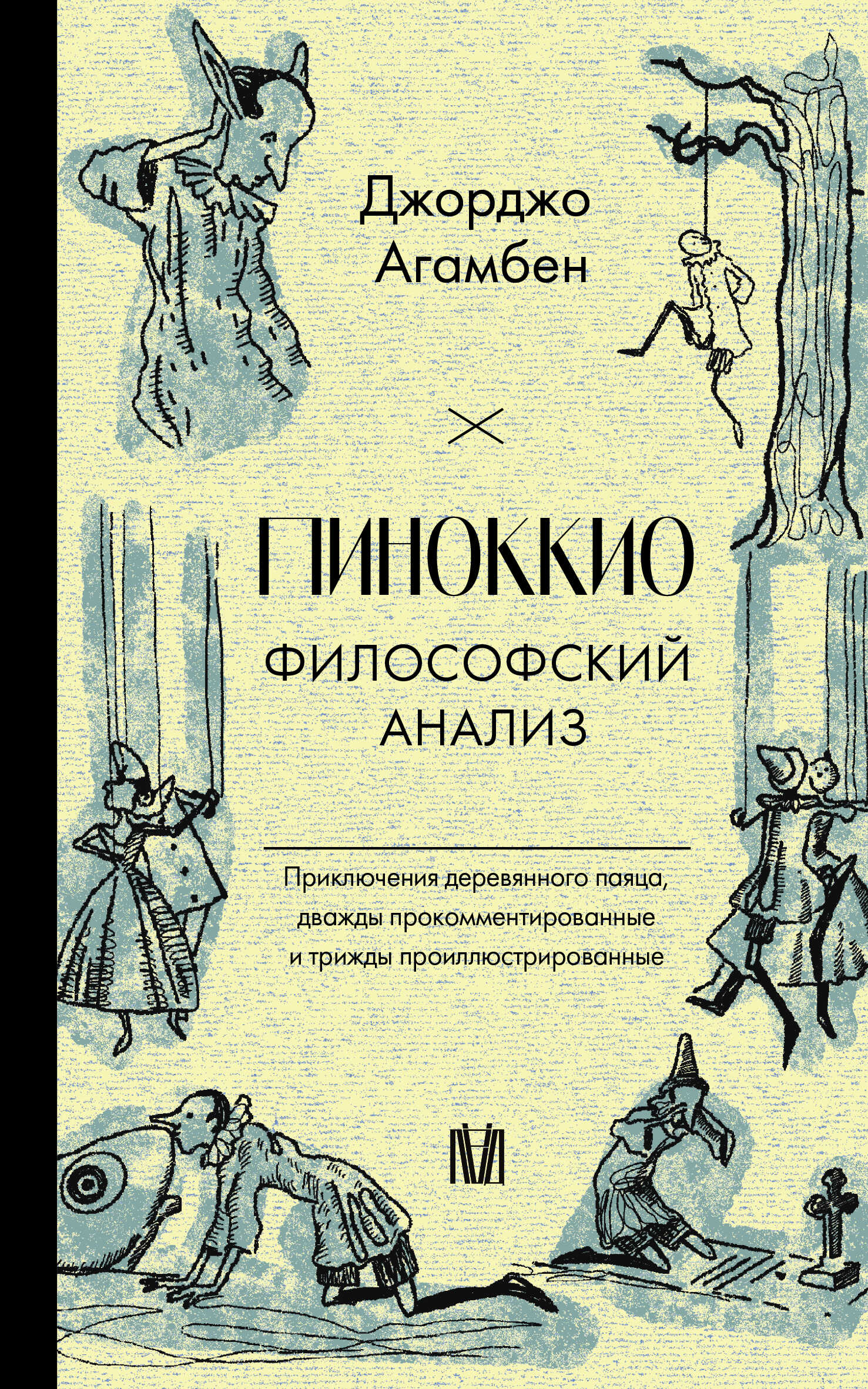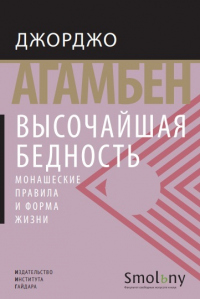Читать книгу - "Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое - Джорджо Агамбен"
Аннотация к книге "Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое - Джорджо Агамбен", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Известный итальянский философ Джорджо Агамбен анализирует жизнь и творчество одного из величайших поэтов Европы – Фридриха Гёльдерлина.В этой необычной хронике Агамбен обращается к последним десятилетиям жизни поэта, которые тот в состоянии безумия провел в башне на берегу Неккара. Но действительно ли это было безумие – или форма сопротивления? Автор исследует, как «обитающая жизнь» поэта – между публичным и частным, между речью и молчанием – становится моделью существования вне нормальности и вне времени.Через письма, фрагменты стихов, свидетельства современников и собственные философские размышления Агамбен показывает: изоляция Гёльдерлина – это не просто болезнь, а образ бытия, политическое и поэтическое высказывание о невозможности быть понятым в своем времени. Эта книга не о диагнозе, а о судьбе, в которой поэзия становится последней формой свободы.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Двадцать девятого октября в письме сыну мать Гёльдерлина – единственный раз в дошедшей до нас переписке – призналась, что дала ему повод ненавидеть себя: «Возможно, я, сама того не зная и не желая, по какой-то причине настроила тебя против себя… Будь благоразумен, дай о себе знать, я попробую исправиться».
Даже самые внимательные исследователи творчества поэта по-прежнему рассматривают его полный крайностей духовный путь как вариацию трагической парадигмы. Берто предполагает, что Гёльдерлин воспринимал собственную жизнь через призму гегелевской концепции трагического героя, одновременно виновного и безвинного, и после кончины Сюзетты Гонтард в некотором роде винил себя в ее смерти. «Только тот герой, – пишет он, – кто одновременно виновен и безвинен, как Эдип, как Антигона, может быть поистине трагическим… Только через соотношение вины и ее отсутствия он становится трагической фигурой»[67]. Примечательно следующее: Берто хоть и уточняет, что Гёльдерлин почти никогда не употребляет слово «вина» (Schuld), он все равно усматривает здесь аналогию и даже видит влияние гегелевских представлений о трагическом. Однако дело обстоит ровно наоборот: как заметил Джанни Каркия, поэт предпринимает попытку отойти от диалектики трагического и мнимого примирения противоположных начал.
Жертвенной мистике, объединению разъятых полюсов искусства и природы посредством трагической смерти Гёльдерлин противопоставляет совсем иную возможность разрешения конфликта, которую уловил уже у Софокла, и она скорее конечная и эксцентрическая, нежели вечная и имманентная… По сравнению с позитивным видением, предлагаемым посткантианским идеализмом, для которого парадигма трагической смерти зачастую становится архетипом диалектического разрешения противоречия, позиция Гёльдерлина в большей степени стойко зиждется на кантовском отрицательном напряжении[68].
Именно в конце «Примечаний к Эдипу» он противопоставляет трагико-диалектическому примирению враждующих начал – человеческого и божественного – искажение и распад, из чего действительно складывается весьма оригинальный образ «священного предательства»:
Дабы миропорядок не знал пустот и воспоминание о божественных существах сохранялось вечно, Бог и человек взаимодействуют так, чтобы позабыть о самой идее неверности, поскольку о божественной неверности следует помнить прежде всего. В эту секунду человек забывает о себе, а Бог оборачивается предателем – но предателем священным. Крайняя степень пассивности предполагает исключительно временны´е и пространственные формы восприятия[69].
Не только это превращение, или же священное «предательство», переходит в искаженное состояние и забвение, исключающие вероятность диалектического примирения; персонажи трагедии, как говорится в «Примечаниях к Антигоне», отчуждаются от своего «идейного образа» (Ideengestalt), они принимают антитрагическое, если не сказать почти комическое обличье. Они не «борются за правду или же подобны тем, кто защищает свою жизнь, собственность или честь… Они противопоставляются друг другу исключительно как персонажи, герои, принадлежащие к одному сословию, и таким образом приобретают застывшую форму». Обращение трагического персонажа в комического, определяемого происхождением, подчеркивается тем, что трагический конфликт лишается содержания, становится чисто формальным и потому больше не представляется как борьба не на жизнь, а на смерть; теперь это «бег наперегонки по коридорам: кто первый выбьется из сил и толкнет соперника – проиграл»[70] (нельзя отрицать, что уже само это сравнение звучит комично).
В духе, ничуть не в меньшей степени противоположном трагическому, Гёльдерлин осознает и проживает также отсутствие бога, через которое определяет положение человека в современную ему эпоху. Те из исследователей, кто подробно рассматривает атеистические настроения в позднем творчестве поэта, – начиная с Бланшо и заканчивая Хайдеггером – неустанно цитируют строчку из стихотворения «Хлеб и вино»: в ней автор безапелляционно заявляет, что оставленный богами человек не может в полной мере пережить произошедшее, «но заблуждение, как и дрема, помогает, а нужда и ночь делают нас сильнее»[71]. А также они особенно обращают внимание на последние две (исправленные) строки из «Призвания поэта» (Dichterberuf): в них он точно так же категорично пишет, что творцу «не нужно никакое оружие, никакая хитрость, пока ему помогает отсутствие бога»[72]. И все же эти исследователи, кажется, не замечают, что смерть или отсутствие бога в этом случае – вовсе не трагическое обстоятельство (до такой степени теологического нигилизма, вероятно, не дошел и сам Ницше), а поэт, в отличие от Хайдеггера в последние годы жизни, не ждет появления другого божественного существа. Он ощущает исчезновение богов посредством глубокого и в то же время парадоксального чутья, ему, «как древнему Танталу», дозволено увидеть больше, чем он может вынести, посему это событие принимает для него поэтическую и сущностную форму идиллии, или же комедии.
Рис. 6. Неизвестный художник, силуэт магистра Гёльдерлина, 1795 г.
Среди текстов Гёльдерлина есть один, оставшийся незамеченным на фоне всех прочих теоретических сочинений: в нем автор рассуждает о сути комедии и, как это делал Синклер, рядом с ней ставит и идиллию. Это рецензия на драму Зигфрида Шмида «Героиня», вышедшую в печати в 1801 году. В ней поэт излагает самую настоящую теорию комического, яркость которой нельзя не отметить. Текст открывается предисловием (Umschweife), за длинноту которого автор извиняется и в котором пытается дать определение комического жанра, в том числе и с целью развеять «несправедливые предрассудки» о нем. Подлинная суть комедии в том, чтобы представить «правдивый, но вместе с тем поэтически осмысленный и художественно выраженный образ так называемой обыденной жизни (des sogennantes gewöhnlichen… Lebens)». Последнюю Гёльдерлин тут же определяет как нечто «слабо и отдаленно связанное со всем сущим, и, поскольку жизнь эта сама по себе в высшей степени незначительна, ее следует воспринимать посредством поэзии как бесконечно значимую»[73].
Следовательно, неотъемлемая часть комического – то самое «обыденное и привычное» (Gemeine und Gewöhnliche), то, от чего поэт отгородился и сам порицал себя за это в письме Людвигу Нойферу в ноябре 1798 года[74]. Если обыденная жизнь предполагает постепенно ослабевающую связь с миром, поэт, желающий отобразить ее в творчестве, «должен всякий раз выхватывать фрагмент существования из своего жизненного контекста» и вместе с тем «выступать посредником и разрешать» конфликт тех элементов, которые в этом процессе разделения выглядят «чрезмерными и однобокими»[75]. И сделать это он может, не только «возвышая и делая чувственно явным» вышеуказанное противопоставление, но и представляя его как «естественную правду» (Naturwahrheit): «Именно там, где материя сильнее всего оторвана от реальности, как в идиллии, комедии или элегии, поэт должен в высшей степени совершенно произвести это извлечение, поскольку он передает жизнь в эстетически верном виде, показывает, каково ее самое естественное отношение ко всему»[76].
Именно это и происходит в комедии: самое обычное и незначительное – привычная жизнь –
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн