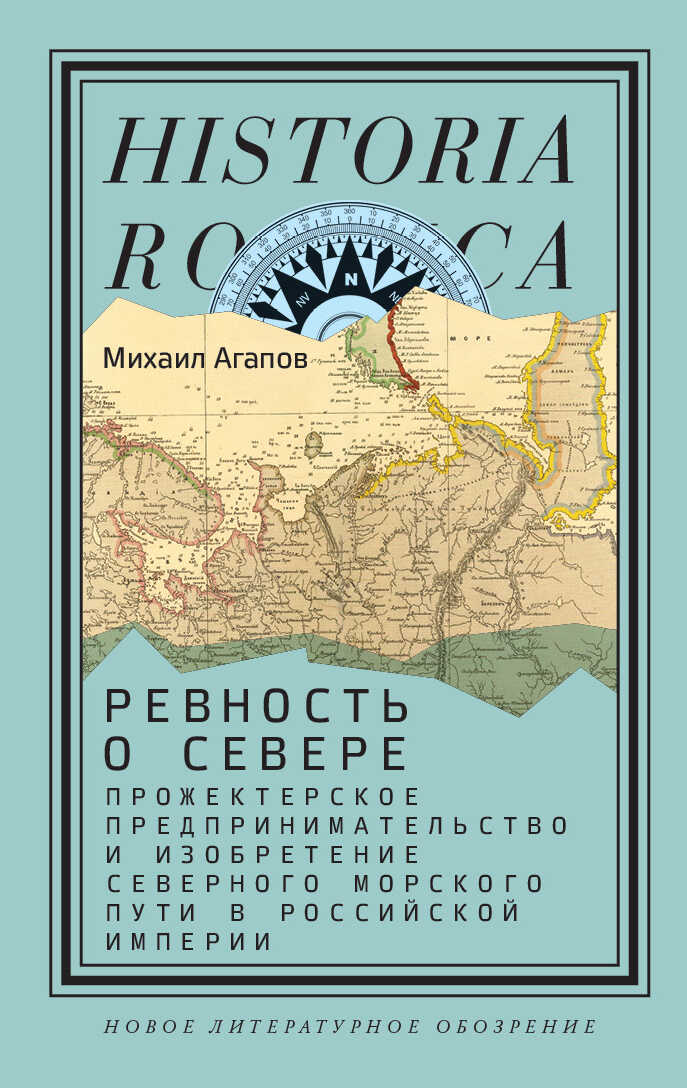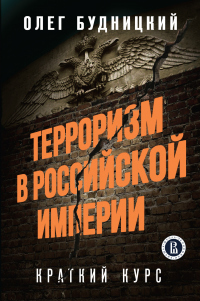Читать книгу - "Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов"
Аннотация к книге "Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В рамках русского проекта по консолидации нации во второй половине XIX – начале XX века прошлое и будущее северных окраин России было переопределено: если раньше правящая элита считала их бесполезными владениями, то теперь они стали восприниматься более русскими, чем внутренние губернии. Существенный вклад в этот процесс внесла группа предпринимателей-энтузиастов, которых современники называли «ревнителями Севера». Книга М. Агапова посвящена деятельности и мировоззрению наиболее ярких представителей этой группы – В. Н. Латкину (1810–1867) и М. К. Сидорову (1823–1887). Вложив все свои средства в организацию экспедиций для открытия пути в устья Печоры, Оби и Енисея через Северный Ледовитый океан, они попытались заинтересовать своими прожектами высшую имперскую бюрократию, деловые круги и общественность. Отстаивая принципы «самостоятельной русской торговли», В. Н. Латкин и М. К. Сидоров предложили протекционистскую государственно-корпоративную модель развития северных окраин, а разработанный ими дискурс о Севере России – концепция Северного морского пути – оказался востребован как в позднеимперский, так и в советский и постсоветский периоды. Михаил Агапов – российский историк, доктор исторических наук.
Присоединение России к континентальной блокаде после заключения Тильзитского мира и последовавшая затем англо-русская война изменили геополитическое значение Первого Севера России367. В 1807–1812 годах, пока Балтийское море было прочно заперто британским флотом, Архангельск пережил свой второй расцвет, вновь став главными морскими воротами России. В то время, когда в стране действовал запрет на вывоз хлеба за границу, Александр I по просьбе Датско-Норвежского королевства разрешил продажу жизненно необходимой для Северной Норвегии ржи и пшеницы из Архангельска368. В условиях континентальной блокады другого способа получения хлеба у северных норвежцев не было. После того как британский флот разорил Колу и весь Мурманский берег369, всем их жителям, без различия состояний, в свою очередь, именным указом Александра I от 6 мая 1810 года было разрешено производить в Норвегии мену на ржаную муку трески и палтусины без взимания за привоз рыбы установленной пошлины370. 12 сентября 1811 года действие указа было распространено на Кемский уезд и Сумский посад371. Рассматриваемая первоначально как временная мера, льготная меновая хлебная торговля неоднократно расширялась на новые территории372 и продлялась, пока наконец в 1838 году не была установлена бессрочно. К этому моменту льготный район включал полностью Кольский, Кемский и частично Архангельский и Онежский уезды Архангельской губернии. В официальных документах он стал именоваться «Поморским краем», а его жители – «поморами». Помимо прочего, «поморы» освобождались от платежа пошлины за постройку промысловых кораблей. Предоставленные им государственные льготы обосновывались тем, что «суровость климата, в котором они живут, неплодородие земли и совершенный недостаток во всяком другом промысле, кроме рыбной ловли и мены, лишают их не только возможности платить государственные подати, но и содержать себя с семействами»373. Как точно заметил Д. Л. Семушин, «поморская торговля создала поморов»374.
Иначе говоря, поморы возникли как сословная группа375. Хотя в правительственных постановлениях подчеркивалось, что льготы «Поморского края» не распространяются на другие территории Архангельской губернии, катойконим (от греческих слов κᾰτά – «по, сообразно», οἶκος – «жилище» и ὄνομα – «имя») «помор» получил расширенное значение – со временем «поморами» стали называть всех русских уроженцев морского побережья Архангельской губернии. Важно заметить, что в 1842 году на чиновников Кольского и Кемского уездов Поморского края, а также Мезенского уезда Архангельской губернии был распространен льготный порядок государственной службы, уровнявший их по «особенным преимуществам» с чиновниками, служившими в Сибири и на Кавказе376. Таким образом, в первой четверти XIX века «Северный край» был заново включен в российскую мозаику имперских окраинных систем особых статусов, льгот и привилегий377. Наряду с лоплянами, самоедами, зырянами и другими поморы стали еще одним членом уравнения «имперской ситуации стратегически многомерного разнообразия»378.
Большой резонанс вызвало посещение Архангельской губернии по пути в Финляндию императором Александром I в июле 1819 года. Это был первый со времен Петра Великого визит правящего монарха в «Северный край», означающий в глазах современников восстановление положения региона в имперской географии власти. Спустя сто лет после того, как Архангельск «был принесен в жертву Петербургу», Третий Север России в лице императора, казалось, вновь готов был видеть в нем не конкурента, а верного союзника. Именно так прочитывалось участие Александра I в спуске 74-пушечного корабля «Три святителя», 44-пушечного фрегата «Патрикий» и в закладке 44-пушечного фрегата «Меркурий» на Архангельской верфи379. Архангелогородская земля была представлена императору местными властями как исконно русская. По воспоминаниям очевидцев, большое впечатление на монарха произвели «толпы девушек в национальной русской одежде парчовых юбках, полушубках и повязках, унизанных жемчугам… Любуясь ими, Государь милостиво разговаривал, смотрел и хвалил их наряд»380. Биограф Александра I Н. К. Шильдер приводит воспоминания купца Вешнякова о впечатлениях императора от путешествия по Архангельской губернии: «Я не думал встретить в Архангельской и Олонецкой губерниях такой природы и такого народа. Мне сказывали прежде, что природа здесь скудна, а люди грубы и необразованны, но я заметил почти противное: воздух здоров, природа вполне, кажется, вознаграждает человека, а что касается жителей, то они развитием своим нисколько не уступают прочим местностям моей империи»381.
Осмотр Александром I северных губерний был непосредственно связан с его проектом введения на территории великорусских губерний системы генерал-губернаторств (наместничеств)382. Речь шла не просто об административной реформе. С развитием этнографического взгляда на своих поданных правящая династия все больше отождествляла границы великорусских губерний с пределами государствообразующего этноса в целом и русскости в частности383. Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии должны были составить один из пяти округов великорусских губерний384. Уже в самом начале царствования Николая I этот проект был отвергнут и вопрос об отношении «Северного края» к «коренной России» остался открытым. Зарождающаяся местная интеллигенция, первыми представителями которой были привлеченные И. И. Лепехиным и Н. Я. Озерецковским к изучению «северных стран России» в качестве корреспондентов Академии А. И. Фомин и В. В. Крестинин, сделала своей трибуной «Архангельские губернские ведомости». Архангельские краеведы, литераторы и поэты – И. Варовчиков, И. Муромцев, П. Кузьмищев, М. Истомин, М. Заринский, О. А. Богуслав и др. – представляли свой край и его население как органическую часть России. Столичные интеллектуалы в целом поддерживали такой взгляд на Европейский Север страны. Н. И. Надеждин относил к «Великой России» «все губернии нынешней Российской империи, расположенные по водам Северной Двины, Волги и Дона, включительно с бассейнами Ильменя, Ладоги и Онеги». Основанием для такой категоризации служила не столько общность исторических судеб названных земель (этот вопрос активно дискутировался), сколько их сходство «в гражданском отношении… по так называемому „Учреждению о Губерниях“». По этому критерию в категорию «Великая Россия» не попадали «не имеющие губернской организации Земля Донских Казаков и Кавказская область». Особняком от «Великороссийской стороны», по мнению Н. И. Надеждина, стояла и Сибирь – как в историческом, так и в гражданском отношении. Наконец, заключал Н. И. Надеждин, «Великороссийские губернии народ называет просто: „Россиею“. Жители их, находясь в прочих губерниях и областях империи, считают себя не в России»385. Заметим, что в последнем случае «Север России» также выпадал из круга «коренных» российских земель – жители Архангелогородской губернии, как и сибиряки, в массе своей считали себя «вне России»386.
1.3.6. Изобретение «Русского Севера»
Размышления об исторических судьбах «наших северных стран» занимали центральное место на
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая