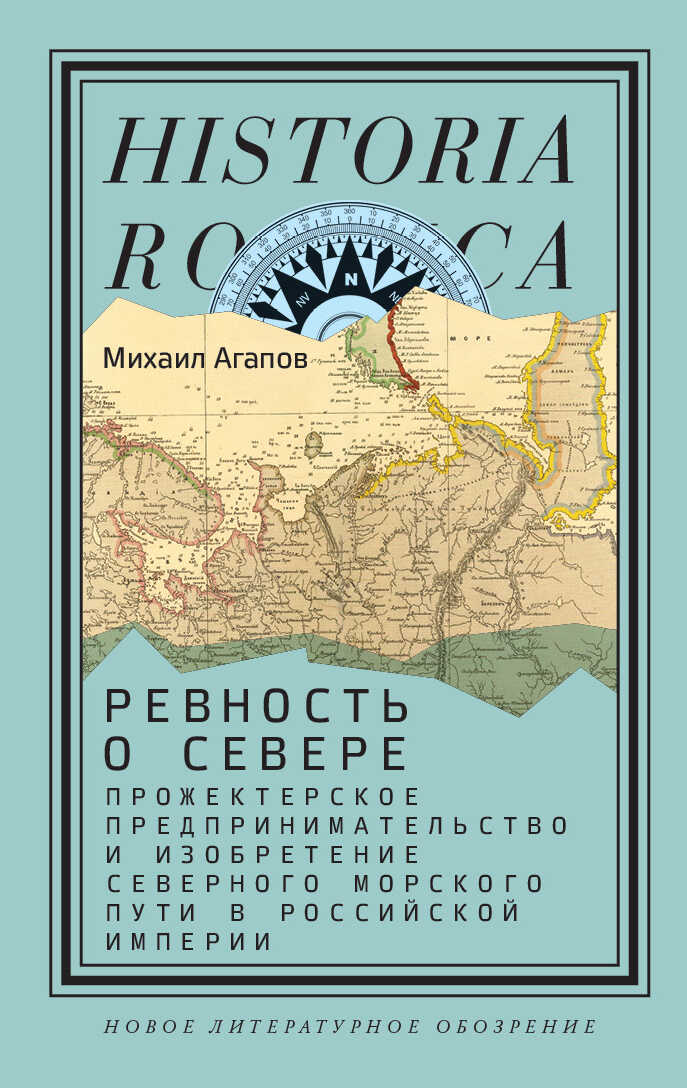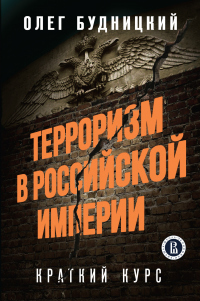Читать книгу - "Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов"
Аннотация к книге "Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В рамках русского проекта по консолидации нации во второй половине XIX – начале XX века прошлое и будущее северных окраин России было переопределено: если раньше правящая элита считала их бесполезными владениями, то теперь они стали восприниматься более русскими, чем внутренние губернии. Существенный вклад в этот процесс внесла группа предпринимателей-энтузиастов, которых современники называли «ревнителями Севера». Книга М. Агапова посвящена деятельности и мировоззрению наиболее ярких представителей этой группы – В. Н. Латкину (1810–1867) и М. К. Сидорову (1823–1887). Вложив все свои средства в организацию экспедиций для открытия пути в устья Печоры, Оби и Енисея через Северный Ледовитый океан, они попытались заинтересовать своими прожектами высшую имперскую бюрократию, деловые круги и общественность. Отстаивая принципы «самостоятельной русской торговли», В. Н. Латкин и М. К. Сидоров предложили протекционистскую государственно-корпоративную модель развития северных окраин, а разработанный ими дискурс о Севере России – концепция Северного морского пути – оказался востребован как в позднеимперский, так и в советский и постсоветский периоды. Михаил Агапов – российский историк, доктор исторических наук.
Во-вторых, местные жители явно предпочитали полевым работам рыболовство и добычу морского зверя. «Упражняясь большее время в лове рыб, не брегут о хлебопашестве», – писал Г. Р. Державин об обитателях Сумского острога. «Большая же часть поселян [Сумского острога] ездят на рыбные промыслы в Мурманске… ловят треску, пикшей и палтасину и продают в Архангельске… Главный торг граждан [Вытегра] состоит в продаже… свежепросоленной рыбы, отправляемой на мореходных судах в Петербург». Расхожее среди «приморских россиян» выражение «Море – наше поле; даст Бог рыбу, даст и хлеб» не только отражало экономическую основу их жизненного уклада, но и подчеркивало их отличие от обитателей хлебопашной «коренной России»343.
Наконец, в-третьих, развитие земледелия в «Северном крае» было объективно ограничено «по холодности климата». В тех случаях, когда местные жители все же брались за полевые работы, они предпочитали выращивать «только рожь, ячмень, овес, пшеницу, коноплю, лен и горох»344. Но и эти злаковые культуры далеко не всегда оправдывали трудозатраты по уходу за ними. У зырян, по словам Н. Я. Озерецковского, достойных похвалы за их усилия по «присовокуплению к российскому народу», не в последнюю очередь посредством обращения к хлебопашеству, «по причине холодного климата урожай [ячменя и ржи] был скудной, и потому почти ежегодно заимствовали они хлеб от приезжающих Соли-Камских купцов»345. Выгоду приносило выращивание льна. «Хлебопашество здесь [в Пудожском уезде] не весьма обильно, – докладывал Г. Р. Державин. – Причиною сему уповательно занятие всех почти полей посевом льна. Вытегорские купцы Мартыновы, Голашевский, онегожане мещане Гончаев и Фомин скупают лен и в 17 верстах от города имеют фабрики для очищения от кострики»346.
Казалось бы, представленный Державиным отчет ясно демонстрировал особенности хозяйственной специализации «Северного края» и указывал на ее наиболее перспективные направления (судоходство, рыболовство, льноводство). Державин сообщал и о «весьма искусных плотниках» – строителях мореходных судов, и об усердных рыболовах, и о богатствах рыбой северных рек, озер и морских заливов. Однако вся эта деятельность воспринималась им и другими имперскими чиновниками исключительно как способ уклонения «приморских россиян» от хлебопашества. Очевидно, в глазах имперских чиновников хлебопашество оставалось важнейшим культурным критерием различения «своих» и «чужих». «Присовокупление» населения «северных наших стран» к российской цивилизации виделось им именно через развитие хлебопашества. Не случайно и символом бедности «Северного края» в официальных отчетах и частных травелогах неизменно выступал употребляемый местными жителями в тяжелые времена хлеб из коры, опилок или мха. Действительно, рыба не всегда обращалась в хлеб347. В таких случаях приходилось прибегать в том числе и к таким ухищрениям, как добавление в муку древесных опилок, соломы или мха. Державин описал этот способ выживания в разделе, посвященном лоплянам (саамам), но, как сообщалось в других отчетах, к нему время от времени прибегали все жители «северной стороны». Примечательно, что при этом никто не вспомнил о том, что добавление суррогатов в муку было характерно и для хлебопашной «коренной России», что таким неожиданным образом сближало ее с далеким Севером:
Лопляне убогие едят хлеб, деланный из сосновой коры или из соломы, и питающиеся оным пухнут и кажутся дородными, в самом же деле слабосильные. Хлеб из сосновой коры следующим образом приготовляется: по снятии коры очищают оной поверхность, сушат на воздухе, жарят в печи, толкут и прибавляют муки, замешивают тесто и пекут хлеб. Хлеб из соломы: берут и рубят намелко концы колосьев и солому, сушат, толкут и мелют, присыпают муки и приуготовляют хлебы…348
Описывая характер «приморских россиян», Г. Р. Державин замечал: «Жители ласковы, обходительны и довольно трудолюбивы, но, живя от правительства в отдалении, своевольны и несколько грубы к ближним начальникам»349. Звучащая в этих словах тревога по поводу лояльности населения российских северных провинций являлась определяющей в политике центральных и местных губернских властей по отношению к туземным жителям. Опасение Санкт-Петербурга вызывала «новгородская закваска» «приморских россиян». Г. Р. Державин писал о них как о потомках свободолюбивых новгородцев, и такое представление о генеалогии русского населения «Северного края» вскоре стало нормативным. Оно усиливало подозрительность властей по отношению к «поморским поселянам», благонадежность которых и без того вызывала большие сомнения в силу широкого распространения среди них раскольничества и контрабандной торговли с норвежцами350.
1.3.4. Северный парадиз естествоиспытателей и поэтов
Если европейские путешественники XVIII века, отправляясь на восток, попадали в их представлениях в свое античное прошлое351, то их современники россияне, исследовавшие северные пределы своей страны, проникали еще дальше в глубь веков. Они видели вокруг себя заснеженные библейские пейзажи, как Матвей Жданов, или даже мир в первые часы его творения, где они сами были первыми людьми, как Н. Я. Озерецковский. «Нигде во всей почти России не видывал я столько птиц, как при берегах Белого моря, – писал он. – Они вешались по деревам дюжинами, при человеке на них смотрящем резвились и кричали, а не коковали. Безлюдные места давали им полную свободу исполнять свои склонности». Если не принимать во внимание стужу и угрюмые виды, дикий Север был настоящим парадизом для естествоиспытателя. «В сих то местах природу и узнавать должно», – заключал Н. Я. Озерецковский352. Державин был поражен величественными открытыми пространствами северной природы, одновременно завораживающей и ужасающей своей довременной первозданностью:
…правильное протяжение берегов [реки Суны], соединяющихся вдали и потом длинные проспекты отверзающих, представляет прекрасное зрелище… Дикость положения берегов и беспрестанные видов перемены ежечасно упражняют взор… взошед на гору, увидели мы пороги сии [порог Кивач на реке Суне] …Чернота гор и седина биющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас и представляют прекрасное зрелище.
Позднее, в 1794 году, воспоминания Г. Р. Державина о Киваче привели его к созданию знаменитой оды «Водопад»353, поставившей поэта в первый ряд идеологов «русского северянства»354. На каноническом портрете Г. Р. Державина, написанном Сальваторе Тончи в начале нового века, бывший правитель Оленецкого наместничества и тогдашний министр юстиции Российской империи был изображен на фоне северного пейзажа в меховой шубе и шапке. Под портретом художник разместил пояснение на латыни: «Правосудие изображается скалою, румяным [восходом] – дельфийский [пророческий] дух, белым снегом – чистосердечие и правдивость». Идея портрета была придумана самим Державиным, когда он получил в подарок от своего страстного поклонника, иркутского купца 1-й гильдии М. А. Сибирякова, одного из соучредителей торгово-промысловой Американской компании, с 1799 года – Российско-американской компании (см. главу 2, параграф 1), богатую соболью шубу и шапку из бобрового меха. Державин пишет об этом в оде «Тончию»:
…Иль нет, ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой:
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая