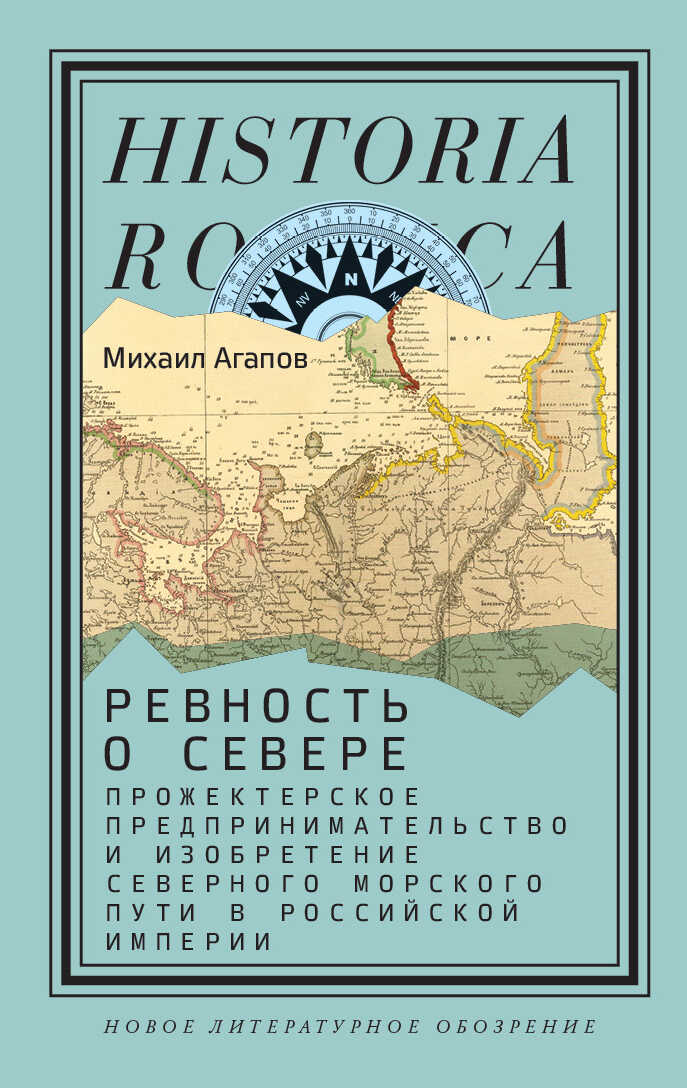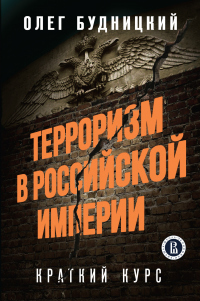Читать книгу - "Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов"
Аннотация к книге "Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В рамках русского проекта по консолидации нации во второй половине XIX – начале XX века прошлое и будущее северных окраин России было переопределено: если раньше правящая элита считала их бесполезными владениями, то теперь они стали восприниматься более русскими, чем внутренние губернии. Существенный вклад в этот процесс внесла группа предпринимателей-энтузиастов, которых современники называли «ревнителями Севера». Книга М. Агапова посвящена деятельности и мировоззрению наиболее ярких представителей этой группы – В. Н. Латкину (1810–1867) и М. К. Сидорову (1823–1887). Вложив все свои средства в организацию экспедиций для открытия пути в устья Печоры, Оби и Енисея через Северный Ледовитый океан, они попытались заинтересовать своими прожектами высшую имперскую бюрократию, деловые круги и общественность. Отстаивая принципы «самостоятельной русской торговли», В. Н. Латкин и М. К. Сидоров предложили протекционистскую государственно-корпоративную модель развития северных окраин, а разработанный ими дискурс о Севере России – концепция Северного морского пути – оказался востребован как в позднеимперский, так и в советский и постсоветский периоды. Михаил Агапов – российский историк, доктор исторических наук.
Высшую ступень в составленной Озерецковским иерархии групп населения «Северного края» занимали «приморские россияне», называемые также «беломорцами» или «поморскими поселянами». Однако здесь было важное исключение: «поморских поселян» – ревностных старообрядцев Озерецковский относил к самому низкому уровню иерархии, ставя их в один ряд с самоедами: и тех и других он находил глубоко суеверными, нечистоплотными и «вонючими»325. Более умеренных в приверженности к «старой вере» «поморских поселян» Озерецковский описывал заметно доброжелательнее. Он подчеркивал их первенство перед другими народами и племенами в заселении «северных наших стран». Смело интерпретируя туманные сведения Несторовой летописи, он утверждал, что «прежде Рюрика» и даже «прежде поселения их [самоедов] в сей стране, земля сия под российскою властию уже состояла»326. Наиболее близкие «славенороссийскому народу» по всем критериям, «поморские поселяне» в рассматриваемый период тем не менее не считались его частью. Такое отношение к ним сохранялось вплоть до середины XIX века327. Признать в «приморских россиянах» «своих» представителям «коренной России» – академикам, администраторам и путешественникам – мешал, во-первых, разительно отличающийся от привычного им уклада «поморский» образ жизни; во-вторых, широко распространенное среди «поморских поселян» раскольничество и, в-третьих, подозрение «поморских поселян» – как это часто бывало в отношении жителей имперских окраин – в сепаратистских настроениях.
Огромные пространства Северной Азии, открыть которую для просвещенных умов выпало сокурснику Н. Я. Озерецковского и его товарищу по экспедиции П. С. Палласа – И. И. Лепехина В. Ф. Зуеву, до начала XVIII века именовались на европейских картах «Великой Татарией». На карте Гийома Делиля, напечатанной в Париже в 1700 году, эта территория обозначалась уже как «Азиатская Московия», от «Европейской Московии» она отделялась Уральскими горами. В 1712 году на карте Адама Фрейдриха Цюрнера, опубликованной в Амстердаме, появилось слово «Сибирь», которое в течение столетия постепенно вытеснило «Великую Татарию» с европейских карт328. В. Н. Татищев подразделял «Русскую империю во Азии» на две части: полуденную страну (Нагайская вице-губерния) и «большую же часть», Сибирь – полунощную страну (Сибирская генерал-губерния). Первую Татищев отождествлял со Скифией, вторую – с Гипербореей329. Таким образом, Сибирь была обозначена не просто как северная, но как предельно северная страна.
В иерархии групп населения Второго Севера России, представленной В. Ф. Зуевым в его «Описании живущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов», самую низшую ступень занимали населявшие далеко удаленную от русских городов «последнюю часть [земли] к северу» и практически не затронутые христианизацией самоеды330. В этом отношении взгляд В. Ф. Зуева на народы «берегов Северного моря» полностью совпадал со взглядом Н. Я. Озерецковского. Чуждость самоедов «цивилизации» произвела на В. Ф. Зуева столь сильное впечатление, что он уподобил их животным: «Ближайшие к северу самоедцы, коли можно назвать дикими зверьми, то в сходственности едва ошибиться можно»331. Напротив, остяки332, проживавшие на Средней Оби, в зоне русской колонизации, заслужили похвалу В. Ф. Зуева, поскольку «более обходясь с русскими, более приняли их обыкновений и поступок»333. В. Ф. Зуев противопоставлял «сей обузданной уже почти народ остяцкий» народу самоедскому, который «на русского руки смело подымает»334. Вместе с тем ученый путешественник отмечал, что самоеды «в разных промыслах трудолюбивы и в трудах прилежны», «при их дикости верны и справедливы»335. Больше всего В. Ф. Зуев был поражен тем, как «самоедцы по всей тундре, подле берега Северного океана лежащей, разъезжают»336. Действительно, маршруты касланий (кочевий оленьих стад с погонщиками) сшивали огромное пространство от Белого приморья до Таймыра, формируя его как целостную жизненную систему337. Не случайно со времен первых научных описаний Дальнего или Крайнего Севера России он часто именовался «самоедским севером». Местное русское население, по наблюдениям В. Ф. Зуева, не отличалось высоким уровнем культуры, однако его образ жизни считался тем эталоном, которому должны были соответствовать «в севере живущие идолопоклонники»338.
1.3.3. Бесхлебный край
Все авторы северных травелогов описывали Север России как «бесхлебный край». Отсутствие здесь характерных для «коренной России» форм сельского хозяйства сразу бросалось в глаза путешественникам и производило на них самое сильное впечатление. Еще в 1715 году сосланный в Сибирь бывший сподвижник Мазепы, ставший в ссылке миссионером, Г. И. Новицкий красочно описал систему питания народов «Сибирской полунощной страны»: «Самоиды и остяки ничтоже ядять прилѢчно ястiю человѢческому, но вся мяса суровыя и кровь пиют, яко же воду»339. Диетарные обычаи северных народов казались внешним наблюдателям столь отличными от их собственных, что даже сами названия народов выводились авторами путевых записок из особенностей местного питательного рациона: «Вси здѢшнiе полунощныи народы отъ обыкновенiй своихъ нарекошася сыроядцы – отъ сырояденiя, тако и сiи отъ нравообычая своего, зане народъ сей упражняеться рибою и отъ повседневной сей пищи ничто же вящше сущу во устѢхъ ихъ, яко ости рибные, отъ нихъ же мниться быть яко названiе се Остяки»340. Христианизация северных народов означала, помимо прочего, привитие им «христианского образа жизни», важной частью которого были оседлость и хлебопашество – ключевые признаки «цивилизованности», считывавшиеся одновременно и как свидетельства «обрусения»341.
Маршрут поездки Г. Р. Державина в 1785 году. Источник: Пименов В. В., Эпштейн Е. М. Русские исследователи Карелии (XVIII в.). Петрозаводск: Государственное издательство КАССР, 1958. С. 98. Редакторы карты – Д. И. Шехтер, Р. С. Киселева
Особую озабоченность центральных и губернских властей вызывала бедность «приморских россиян», считавшаяся прямым следствием отсутствия у последних развитого земледелия. В 1785 году назначенный Екатериной II правителем только что учрежденного между Ладожским озером и Белым морем Олонецкого наместничества Г. Р. Державин совершил инспекционную поездку по уездам наместничества, помимо прочего, и для того, чтобы выяснить основания «небрежения» местными жителями земледелием. В представленной по итогам инспекции «Поденной записке, учиненной во время обозрения губернии правителем Олонецкого наместничества Державиным» называлось три причины «весьма недостаточного» хлебопашества в крае.
Во-первых, «ежегодное почти от дому отлучение [местных сельских жителей] в другие города [на заработки]», то есть отходничество, главным образом в Санкт-Петербург и Петрозаводск, реже – в Новгород: «Многие ходят из них [жителей Кижского погоста] в Петербург и питаются столярным мастерством, в коем весьма искусны, иные же продают там конфекты… ходят отправлять в столицы и другие города разные работы: топорную, столярную, ломку и теску дикого камня и прочее». Не меньшее количество «приморских россиян» предпочитало сельским работам «наем», связанный с мореходством:
[В Повенецком уезде] Питаются наемами и от того небрегут хлебопашеством, возят в разные места соль, хлеб и проч. Многие же нанимаются и ездят матросам и в Англию, Португалию, Остиндию и другие страны… Многие из жителей [Сумского острога] доставляют себе пищу отвозом ездящих на моление в Соловецкий монастырь.
Жителей Каргополя от земледелия «отвлекали» их торговые предприятия, состоявшие «большею частью в покупке и продаже разных мякотных товаров,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая