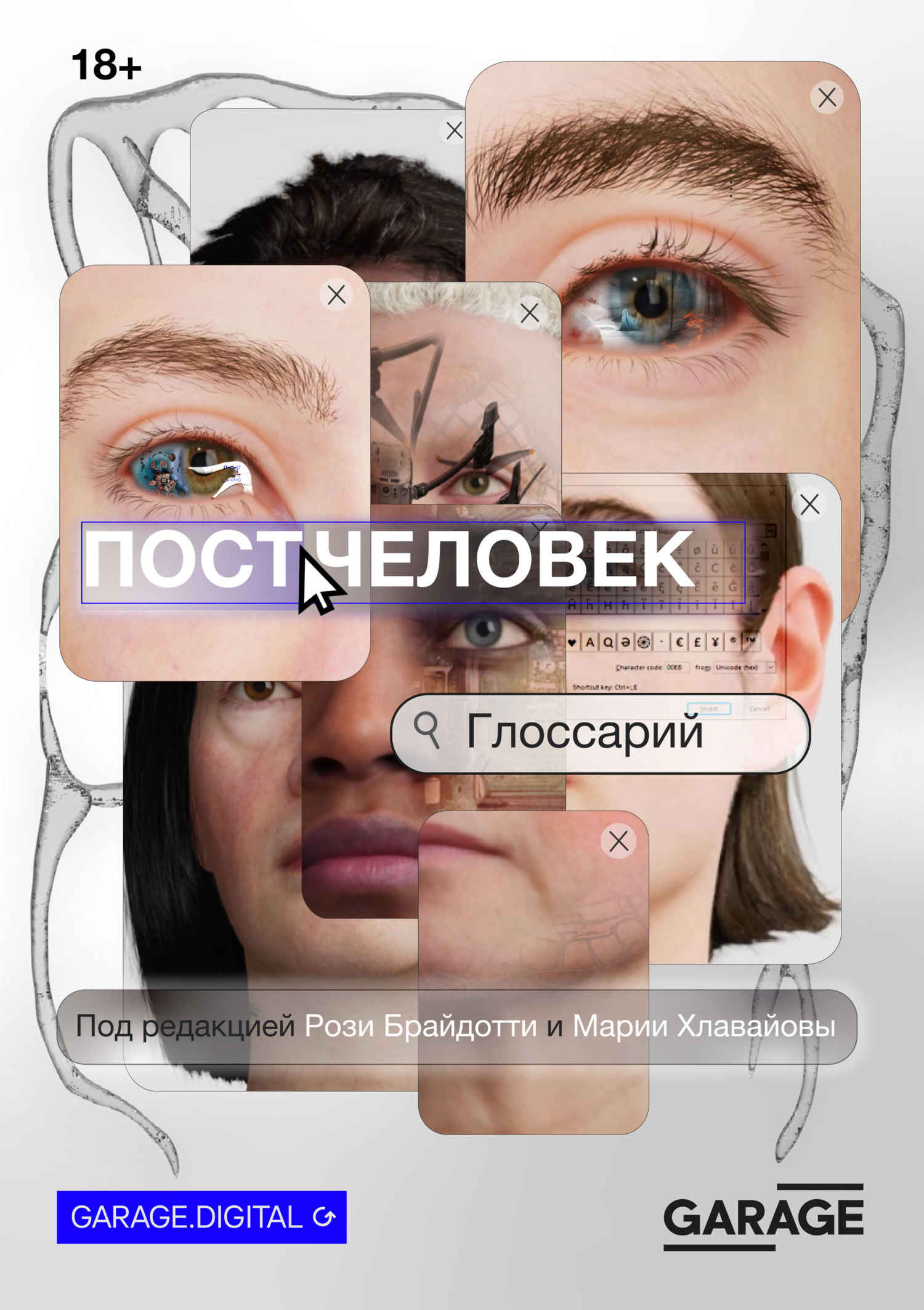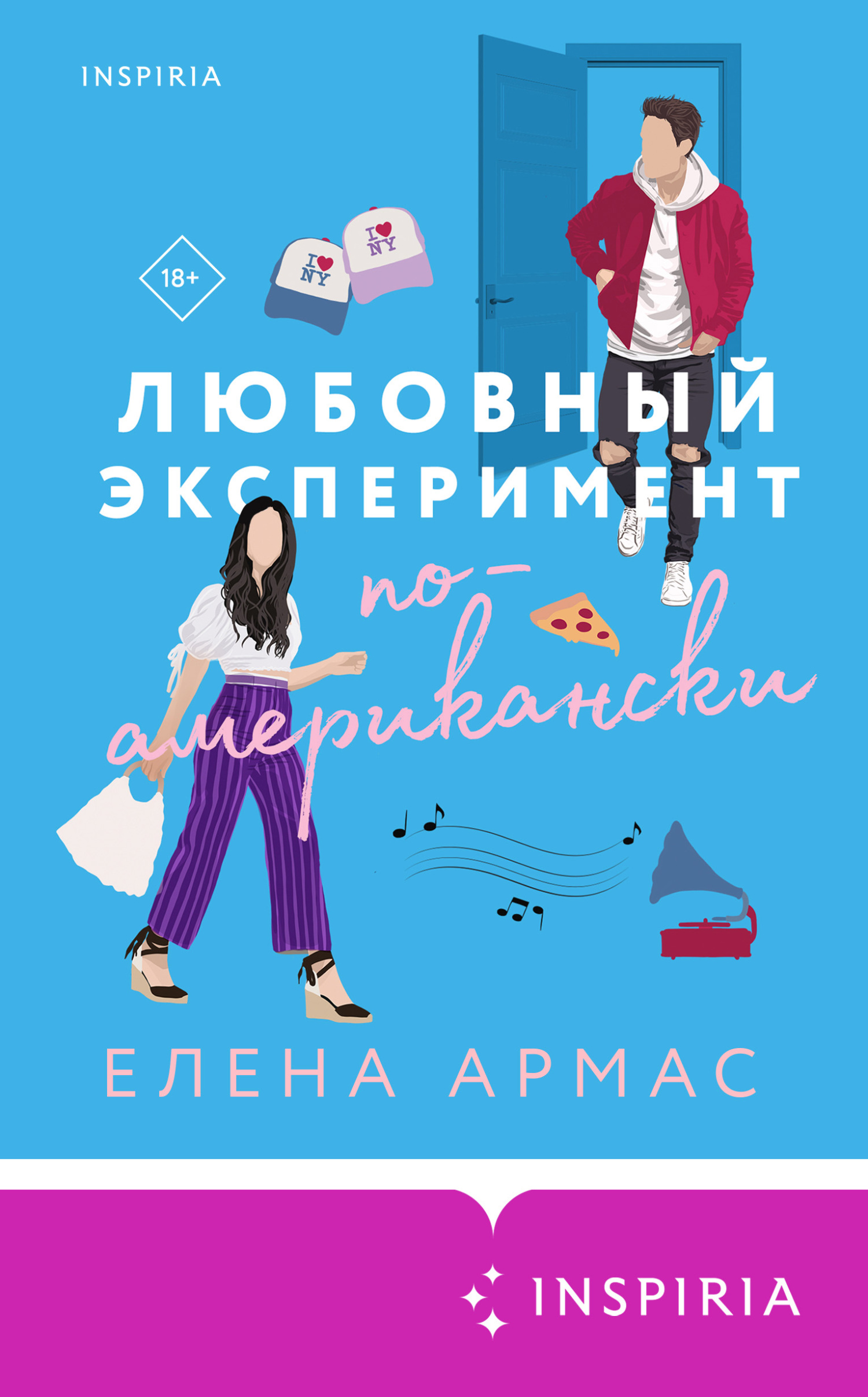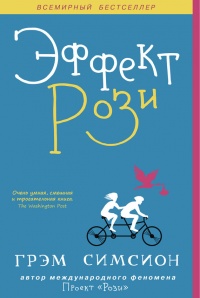Читать книгу - "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти"
Аннотация к книге "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества. Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма. Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).
Иными словами, включение или исключение описаний материализации смысла, значения или идентичности не является самоцелью, а приобретает материальное значение через артикуляцию этих описаний в конкретных контекстах и исторических обстоятельствах. То есть включение и исключение – это различие, которое влияет на определенные политические проблемы и приоритеты и не влияет на другие в зависимости от того, как эти проблемы рассматривались в исследуемой области (областях). Мы не можем включать или исключать «определенные вопросы, не принимая на себя ответственность и не отвечая за определяющие последствия» (Ibid.), которые эти включения или исключения имеют в определенных дисциплинарных историях.
Такова этика материальной значимости, она служит дополнением ее динамики и от нее неотделима. Ибо с точки зрения ее объяснений того, как одни тела и значения становятся ассоциированными, а другие нет, когда мы решаем опираться на одних теоретиков и традиции, а не на других, мы участвуем в практике установления границ, что имеет реальное значение для области нашего вмешательства. Мы являемся частью материально-дискурсивного процесса трансформации возможностей изменения. Таким образом, мы не можем притворяться, будто освобождены от «ответственности за живые отношения становления, частью которых мы являемся» (Ibid.: 393). Сосредоточиваясь на динамике перформативности в этой статье, я являюсь частью агентного разреза внутри постгуманизма, помещающего Барад и Батлер в центр разговора о терминологии материальной значимости.
Используя этот теоретический разрез, я намереваюсь затронуть, разделить и продвинуть более обширные проблемы постчеловеческой феминистской теории. Протопостгуманистические и постгуманистические феминистки, такие как Батлер, Харауэй, Барад, Элеймо и Брайдотти (2013), разработали концепт материальной значимости, чтобы понять материальные тела как место политической борьбы. Эти теоретики используют данный термин для объяснения роли человеческих и не-человеческих тел в повторяющейся настройке гендерных норм и дифференциалов возможностей биологических полов. Согласно этой генеалогии, динамика материальной значимости никогда не бывает вне политики. Таким образом, даже тогда, когда теории материальной значимости «не говорят напрямую о вопросах пола или гендера, они по-прежнему имеют свои корни в феминизме как социальном движении, настаивая на том, что человеческое тело одновременно является политическим, онтологическим и эпистемологическим пространством» (Alaimo, 2014: 16). Поэтому этическое исследование динамики материальной значимости означает не только включение теоретиков, разработавших этот концепт, но и ответственную поддержку их феминистской, постгуманистической политики.
См. также: Коммутационная онтология; Локальность/неразделимость; Нео/новый материализм; Материальные феминизмы; Природокультуры; Постгуманистическая перформативность; Транскорпореальность; Квантовая антропология.
Материальные феминизмы
Что случилось с феминизмом? Недавний так называемый поворот феминистской теории к материи был встречен неоднозначной реакцией. В конце концов, даже если постструктурализм, доминировавший в феминистской теории в 1990-х годах, мог бы сделать акцент на чем-то другом, интерес феминисток к материальности – к сочным, материальным телам, к материальным эффектам нематериальных процессов, к «природе», которая слишком часто служила покровом для «культуры», – оставался устойчивым. Интерес к материальности – если это все, что означает этот поворот, – вряд ли нов. Характеризуемый как преимущественно онтологический и привлекающий все большее внимание к не-человеческому или более-чем-человеческому, а также к биологическим и экологическим аспектам жизненных вопросов, этот поворот также вызвал вопросы о фокусе феминистских теорий. Отменяет ли материальный феминизм язык, дискурс и репрезентацию как инструменты власти или обесценивает их иным образом? Является ли поддерживаемая этим поворотом переориентация на онтологию отказом от эпистемологии как площадки для новаторских феминистских исследований? Или, что еще более тревожно, является ли это отрицанием или забвением этики как смысла существования феминизма? Какое отношение забота о нечеловеческих или более-чем-человеческих проблемах имеет к этическим и сопутствующим политическим проектам феминизма? Не утратили ли мы при таком повороте, так сказать, феминистскую территорию?
Одним из ответов на эти опасения было бы утверждение, что материалистический феминизм думает не просто «о» материи. Это попытка мыслить вместе с материей, формулируя конкретные онтологические, эпистемологические и этические обязательства. Материальный феминизм – это мышление вместе с материей. Материя здесь живая; она дестабилизирует антропоцентрические и гуманистические онтологические привилегии. Понимание материи (включая не-человеческую природу и биологические субстраты человеческой жизни) как чего-то, что «чувствует, общается, страдает, желает, тоскует и помнит» (Barad, 2012: 60), так же как «читает и пишет, вычисляет и совокупляется» (Kirby, 2011: 95) или пытается «подвергать сомнению, решать, контролировать, вычислять, защищать и уничтожать» (Wilson, 2004: 82), предполагает, что материя на самом деле является агентной. Хотя это утверждение не бесспорно (поскольку оно может привести к размыванию феминистских концепций моральных агентов), оно напоминает нам, что, когда материя движет нами (или другими материями), это не является грубой причинно-следственной детерминацией. Агентность здесь, в сущности, сводится к «изменению возможностей изменений» (Barad, 2007: 178). Все материи участвуют (по-разному) в этой агентности-как-действии, где возможности изменений возникают в их продолжающихся и никогда не завершающихся интраакциях. Вместо размывания человеческой агентности агентность феминистского материализма приглашает нас увидеть, как не-человеческие тела или материи могут способствовать собственной актуализации.
Это восстановление жизненности материи не означает, что вопросы языка и репрезентации переписываются или стираются. В мышлении вместе с материей первый план занимает именно мышление. Важные идеи в репрезентации и дискурсивных конструкциях не игнорируются, а скорее сами понимаются как запутанные в собственных материально-экспрессивных границах. Самоочевидная материальность не превосходит дискурсивность больше, чем онтология превзошла бы эпистемологию; полагание материи как агентной на самом деле основательно объясняет, почему феминистский материализм является не только онтологической, но и эпистемологической и этической проблемой. Такие эпистемологические вопросы выходят вперед, например, тогда, когда Барад напоминает нам, что «знание – это когда материя одной части мира делает себя понятной для другой его части» (Barad, 2007: 185). Даже если материя, с которой вместе мы мыслим, вдохновляет нас мыслить по-новому, мы никогда не думаем в одиночку. Или, иными словами, если мы понимаем не-человеческую материю как агентную, то мы также должны отказаться и от эпистемологического главенства. Таким образом, материальный феминизм опирается на феминистскую эпистемологическую критику тотального знания, резонирующую с тем, что Донна Харауэй назвала «ситуативными знаниями» (Haraway, 1988), а Рози Брайдотти – эпистемологической позицией «встроенности и воплощенности» (Braidotti, 2005).
Тем не менее в контексте этих онтоэпистемологий остается вопрос: «Был ли этот поворот (как бы мы его ни называли) этическим поворотом?» (Asberg, 2013: 7). Сесилия Асберг дает превосходный обзор этических вопросов нового феминистского поворота к материальности, находящих свое выражение в стремлении «уважать и хорошо относиться к другим, даже распространять на них заботу, при этом признавая, что мы можем
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут