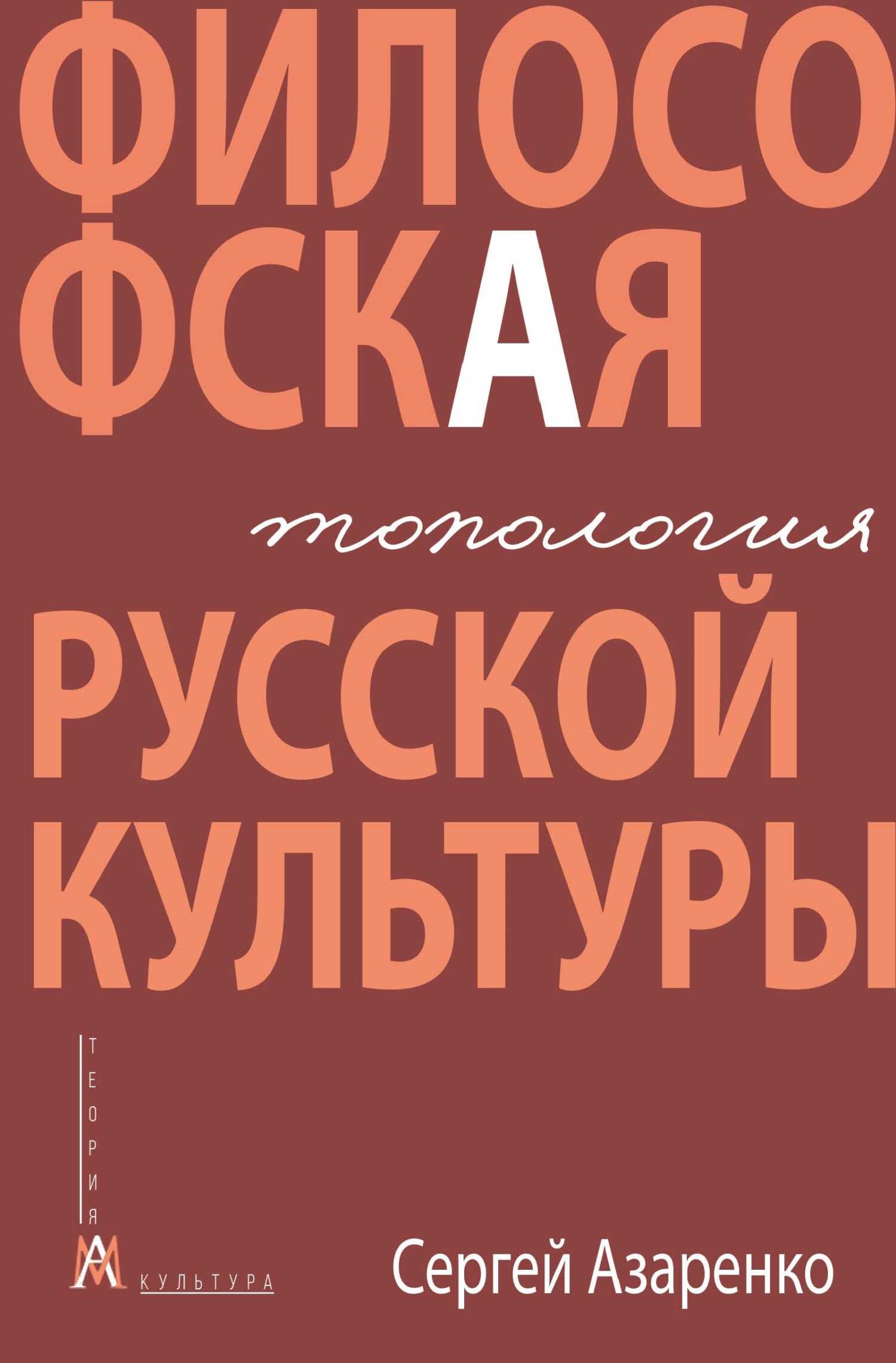Читать книгу - "Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко"
Аннотация к книге "Философская топология русской культуры - Сергей Александрович Азаренко", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В книге обосновывается топология культурного воспроизводства на материале русской культуры. Рассматривается не просто «место» культуры, а «сов-местность» человеческого способа существования, порождающего определенный тип телесности и соответствующий ему способ коммуницирования. Раскрывается единая логика конституирования пространственных и телесных компонентов культурного воспроизводства. Основной пространственный параметр России – ширь и даль, что нашло свое выражение в широте русского характера, в «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке», в одноголосом знаменном русском церковном пении, звучавшем в православных церквах. Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных специальностей, а также всем тем, кто интересуется проблемами культуры и современной философии.
Феноменология показала, что получение информации всегда опосредованно жизненным миром; содержание не может быть самотождественным, оно не конечно в силу контекстов, возникающих в ходе каких-либо взаимодействий; и, наконец, сами коммуниканты не могут быть самотождественными, а являются агентами различных социальных ролей. Кроме того, в современной феноменологии подчеркивается, что традиционная диалогика, восходящая к Платону, распространенная еще во времена Гердера и Гумбольдта в понятии «сообщение» и пронизывающая нашу научную и вненаучную повседневность, предполагает как само собой разумеющееся участие в целом. Но всеобщее, выражающееся в со-общении, с необходимостью приводит к существованию кого-то, кто говорил бы от его имени, что влечет за собой логоцентризм. Тем самым общее в диалоге лишает своего противника всякой возможности возразить и заставляет его в конечном счете замолчать. По мнению Б. Вальденфельса, Э. Гуссерлю принадлежит первая попытка мыслить интерсубъективность, не полагаясь на предустановленный коммуникативный разум. В своем анализе феноменологического опыта Гуссерль предлагает исходить не из «общего» опыта, но из опыта Чужого, хотя при этом все же пытается доказать, что Чужой конституируется на почве Собственного.
Для решения этого вопроса феноменология предлагает два методических подхода: эйдетическую и трансцедентальную редукцию. В эйдетической редукции Чужое включается в архитектонику «сущностных структур», поднимающуюся над Собственным и Чужим. Чужое как Чужое остается за скобками, следовательно, коммуникация с ним оказывается невозможной. Трансцедентальная редукция включает редукцию в некоторый «смысловой горизонт», простирающийся от Собственного до Чужого, что заставляет в конечном итоге умолкнуть последнего. Вальденфельс находит возможным объединение позиций феноменологии (М. Мерло-Понти) и этнометодологии (К. Леви-Стросса) и доказывает, что коммуникация между Собственным и Другим осуществима на территории интеркультурного опыта, не опосредованного неким всеохватывающим третьим, где Собственное постоянно поверяется Другим, а Другой – Собственным[137]. Необходимо принять Чужое в качестве того, на что мы отвечаем и неизбежно должны ответить, то есть как требование, вызов, побуждение, оклик, притязание и т. д. Создатель теории коммуникативного действия Ю. Хабермас продолжил линию Дж. Мида и Э. Дюркгейма, подходы которых сменили парадигму целенаправленной деятельности, продиктованную контекстом философии сознания, на парадигму коммуникативного действия. Понятие «коммуникативное действие» Хабермаса открывает доступ к трем взаимосвязанным тематическим комплексам: 1) понятию коммуникативной рациональности, противостоящей когнитивно-инструментальному сужению разума; 2) двухступенчатой концепции общества, которая связывает парадигму жизненного мира и системы; 3) теории модерна, которая объясняет сегодняшние социальные патологии посредством указания на то, что коммуникативно структурированные жизненные сферы подчиняются императивам ставших самостоятельными, формально организованных систем действия. Рациональными, по Хабермасу, можно назвать прежде всего людей, которые располагают знанием, и символические выражения, языковые и неязыковые коммуникативные и некоммуникативные действия, которые воплощают в себе какое-то знание. Наше знание имеет пропозициональную структуру, то есть те или иные мнения могут быть представлены в форме высказываний.
Коммуникативная практика на фоне определенного жизненного мира ориентирована на достижения, сохранение и обновление консенсуса, который покоится на интерсубъективном признании притязаний, могущих быть подвергнутыми критике. Все используемые в социально-научных теориях понятия действия можно свести к четырем основным: 1) понятие «теологическое действие», которое подразумевает, что актер достигает своей цели, выбирая сулящие успех средства и надлежащим образом применяя их; 2) понятие «регулируемое нормами действие»; 3) понятие «драматургическое действие», соотносящегося с участниками интеракции, образующими друг для друга публику, перед которой они выступают; 4) понятия коммуникативного действия соотносятся с взаимодействием, как правило, двух владеющих речью, способных к действию субъектов. Актеры стремятся достичь понимания относительно своего взаимодействия так, чтобы согласованно координировать эти действия. В этой модели действия особое значение приобретает язык. При этом, полагает Хабермас, целесообразно использовать лишь те аналитические теории значения, которые сосредотачиваются на структуре речевого выражения, а не на интенциях говорящего.
По Хабермасу, общество следует постигать одновременно как систему и как жизненный мир. Концепция, опирающаяся на такой подход, должна представлять собой теорию социальной эволюции, которая учитывает различия между рационализацией жизненного мира и процессом возрастания сложности общественных систем. Жизненный мир предстает горизонтом, в рамках которого уже всегда находятся коммуникативно действующие. Этот горизонт жизненного мира в целом ограничивается и изменяется структурными преобразованиями общества.
Хабермас отмечает, что теория капиталистической модернизации, реализуемая средствами теории коммуникативного действия, относится критически как к современным социальным наукам, так и к общественной реальности, которую они призваны постигать. Критическое отношение к реальности развитых обществ обусловлено тем, что они не используют в полной мере тот потенциал научения, которым располагают в культурном отношении, а также тем, что эти общества демонстрируют «неуправляемое возрастание сложности». Возрастающая сложность системы, выступая как некая природная сила, не только крушит традиционные формы жизни, но и вторгается в коммуникативную инфраструктуру жизненных миров, уже подвергшихся значительной рационализации. Теория модерна непременно должна при этом учесть то, что в современных обществах увеличивается «пространство случайности» для интеракций, освобожденных от нормативных контекстов. Своеобразие коммуникативного действия становится практической истиной. В то же время императивы ставших самостоятельными подсистем проникают в жизненный мир и на путях мониторизации и бюрократизации принуждают коммуникативное действие приспосабливаться к формально организованным сферам действия даже тогда, когда функционально необходим механизм координации действия через взаимопонимание.
Диалогический характер коммуникации и опосредованность ее социальностью была уже предвосхищена М. Бахтиным. Согласно последнему, любое высказывание является ответом, реакцией на какое-либо предыдущее и, в свою очередь, предполагает речевую или неречевую реакцию на себя. Он отмечал, что «сознание слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива». Сходные соображения развивал Л.С. Выготский, который говорил о первоначальной функции речи как о коммуникативной. Речь есть прежде всего средство социального общения, средство высказывания и понимания. Коммуникативную функцию знаковый материал сохраняет даже в тех случаях, когда знак используется лишь как средство для построения логических конструкций. Знаки сохраняют коммуникативный потенциал даже тогда, когда организуют сознание субъекта, не выходя за его пределы и выполняя экспликативную функцию. Такая внутренняя самоорганизация сознания, по Выготскому, происходит в результате интериоризации внешних знаковых процессов, которые, уходя вглубь субъекта, принимают форму его «внутренней речи», образующей основу вербального мышления. Вместе со знаковой коммуникацией в сознание субъекта проникает диалог других размышляющих субъектов, что способствует рождению у него размышления.
Внимание к социальным и диалогическим основам языка у Бахтина и Выготского опосредовано их принадлежностью к русской культуре. Таково у Бахтина выдвижение на первый план «высказывания» (речи) по отношению к «предложению» (нормативному языку); приоритет речи другого в контексте собственной речи; первичность диалога по отношению
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн