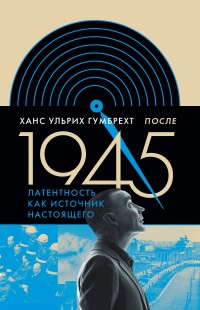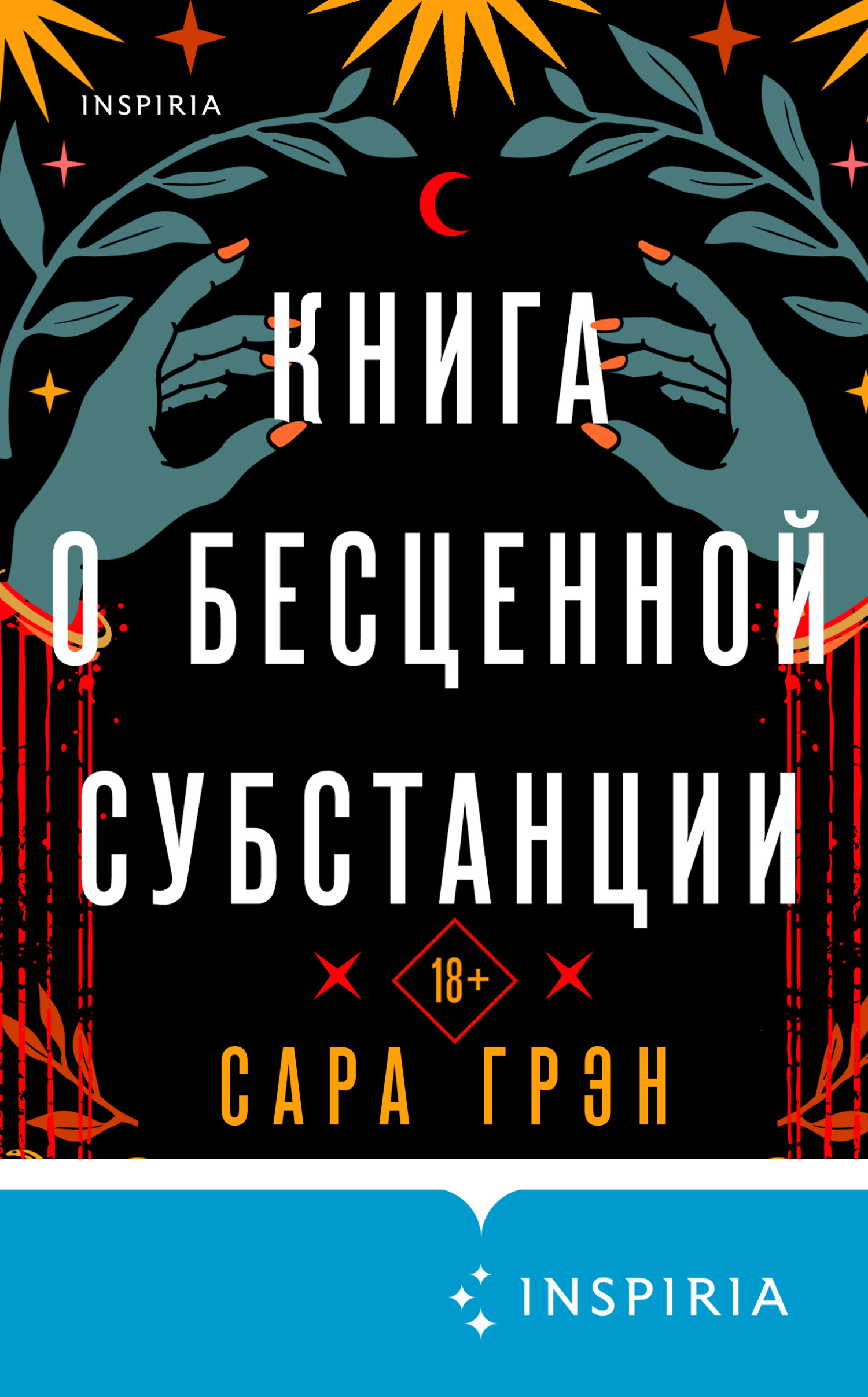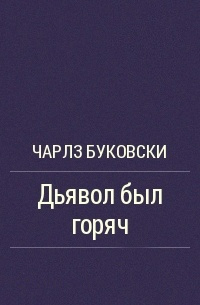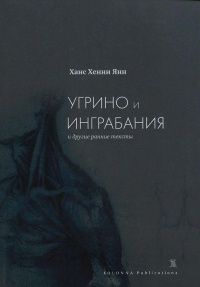Читать книгу - "После 1945. Латентность как источник настоящего - Ханс Ульрих Гумбрехт"
Аннотация к книге "После 1945. Латентность как источник настоящего - Ханс Ульрих Гумбрехт", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Но несмотря на подобный герменевтический оптимизм, проблема так просто не решалась. Сегодня мы знаем уже слишком хорошо – и в особенности из-за трудностей, которые на протяжении второй половины ХХ столетия преследовали эмпирические социальные науки, – что проблема эта и не уйдет никогда. В последних параграфах глав, посвященных интервьюированию, есть признание и предчувствие чего-то подобного, когда Кинси инструктирует индивидуальных исследователей, проводить финальную проверку фактов средствами саморефлексивного изучения: «Являются ли приемы, использованные в настоящем исследовании, одинаково эффективными для других людей, исследующих другие проблемы, – на этот вопрос ответ должен быть найден эмпирически каждым исследователем для себя и в связи со своими конкретными задачами»[74].
* * *
Эти «свои собственные конкретные задачи», которые должен держать в уме ученый, относятся одновременно и к интервьюеру, и к интервьюируемому. Они идентичны (или по крайней мере сходны) с последствиями самообмана как универсального и неизбежного состояния, которое было описано у Сартра за пять лет до этого. Ясно, что методологические утверждения «Доклада Кинси» не имеют прямого отношения к и не являются реакцией на вторую главу сартровского «Бытия и ничто». Но на более общем уровне потенциальное соответствие – и актуальное напряжение – между обостренным осознанием самообмана как части человеческого состояния и процедурами эмпирического опроса составляют ключевую черту психического и интеллектуального климата поствоенного десятилетия. Отношение между двумя этими сторонами, проявившее себя в тех проблемах, с которыми столкнулась исследовательская команда Кинси, – это порочный круг. Если практические и методологические сомнения по поводу прозрачности человека для самого себя и прозрачности его для других лиц привносятся в интервью в качестве основного приема эмпирического исследования, то каждое отдельное интервью подтверждает лишь то, что изначальное осознание самообмана человеком кладет абсолютный предел любой прозрачности человека для самого себя. И подобное подтверждение в свою очередь доказывает необходимость новых эмпирических методов исследования – и так далее. И именно американская культура со своей религиозно мотивированным настойчивостью на честности и со своим практическим доверием к эмпирически полученным знаниям сделала этот порочный круг особенно заметным. Сегодня мы можем лишь гадать на тему того, не является ли нынешнее увлечение самообманом в среде эмпирически ориентированных ученых и аналитических философов из американских университетов просто последней версией культурной конфигурации, которая насчитывает уже как минимум полвека.
Однако Америка была не единственным местом, где мог наблюдаться порочный круг в отношениях между самообманом и техниками составления и ведения опросов; с этой проблемой постоянно сталкивалось само настоящее, которое больше не верило в возможность пересечения границ, неважно, означал ли подобный переход более высокую степень прозрения или то, что прошлое будет оставлено наконец позади. Никакие границы никогда не будут пересечены – это делало мир и экзистенциальные возможности, им предлагаемые, очень узкими. Никакой внутренней уверенности достичь нельзя – это превращало жизнь в аморфное, текучее переживание. За две недели до публикации «Доклада Кинси» Карл Шмитт коротко записывает наблюдение о том, что картезианская сфокусированность на сознании стала внутри западной цивилизации тем историческим водоразделом, из которого генетически проистекает весь современный «страх самообмана»:
Когда все остальные обманщики разоблачены и мы оказываемся внутри себя в одиночестве, которое приглашает нас следовать дальше за собою, то начинается самый худший из обманов – стадия самообмана. И сегодня именно там застает себя тот исторический период, который торжественно открывался с Декарта. Декарта мучительно страшила его вера в возможность глубочайшего обмана, идущего от spiritus malignus, вот почему он так держался за cogito. Неплохо по тем временам – но сегодня нас преследует мучительный страх, идущий от самого внутреннего «я» этого cogito[75].
В следующем параграфе Шмитт связывает этот «мучительный страх, идущий от нашего внутреннего „я“» со своим сознанием невидимых радиоволн, летающих вокруг него в атмосфере:
В качестве реакции на страх я стараюсь завоевать окружающее меня пространство. Но не хвастливое ли это заявление? Та разновидность звуковых волн, которая столь же невидима, сколь и реальна, пронизывает мое пространство. Тот факт, что я их не слышу, не исправит положения. Это как будто в непосредственной близости от меня летают невидимые пули. Можно было бы сказать: «Меня не волнует то, чего я не знаю». – Однако, к несчастью, я все знаю[76].
Что поражает Шмитта, так это трансформация классических проблем западной философии в экзистенциальное состояние страха. И нас это должно поражать отнюдь не меньше.
* * *
Если самообман производит состояние экзистенциального страха, когда не существует никаких внешних позиций, с которых можно было бы опознать «истину» или достичь пресловутой «прозрачности для самого себя» (или, вернее, где невозможны позиции, которые бы создавали такого рода впечатление), то одновременно самообман способен выявить в нас состояние или мотив безмятежного юмора, если только вывести его на сцену в антураже, который должен был бы на первый взгляд всячески поддерживать такую возможность истины и самопрозрачности. В 1946 году журналист Джованнино Гуарески начал публиковать – и с большим успехом – рассказы именно с таким сюжетом; это рассказы, посвященные Дону Камилло и Пеппоне, католическому священнику и мэру-коммунисту в северной итальянской деревушке под названием Понтератто. Дон Камилло, священник, вынужден прятать кучу личных склонностей и планов за фасадом сугубой духовности: это и желание использовать физическую силу в своих стычках с мэром и его последователями, и желание самому играть ведущую политическую роль в деревне, и даже, возможно, свою симпатию к мэру (чье общество ему очень нравится, даже при том, что Пеппоне, завзятый атеист, по логике должен быть противником Дона Камилло – или по крайней мере человеком, которого надо «отбить обратно» в лоно католической веры). Дон Камилло, как только может, старается убедить себя, что все его собственные планы и амбиции продиктованы долгом и даже целым сонмом добродетелей, воплощением каковых он призван являться, чтобы быть образцовым священником. Его проблема (и с точки зрения католичества – его спасение) предстает в фигуре распятого Христа из деревенской церкви; эта фигура, будучи наделенной божественным всеприсутствием, следит за каждым его движением и говорит с ним небесным голосом. И поэтому тщетно Дон Камилло «набрасывает платок на голову распятого Христа из главного алтаря»[77] во время воскресной службы, когда не может сдержать эмоций и агрессивно и громоподобно провозглашает о тех искушениях, что пожирают его паству. Он знает, что Иисус не оправдает его за подобный тон.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут