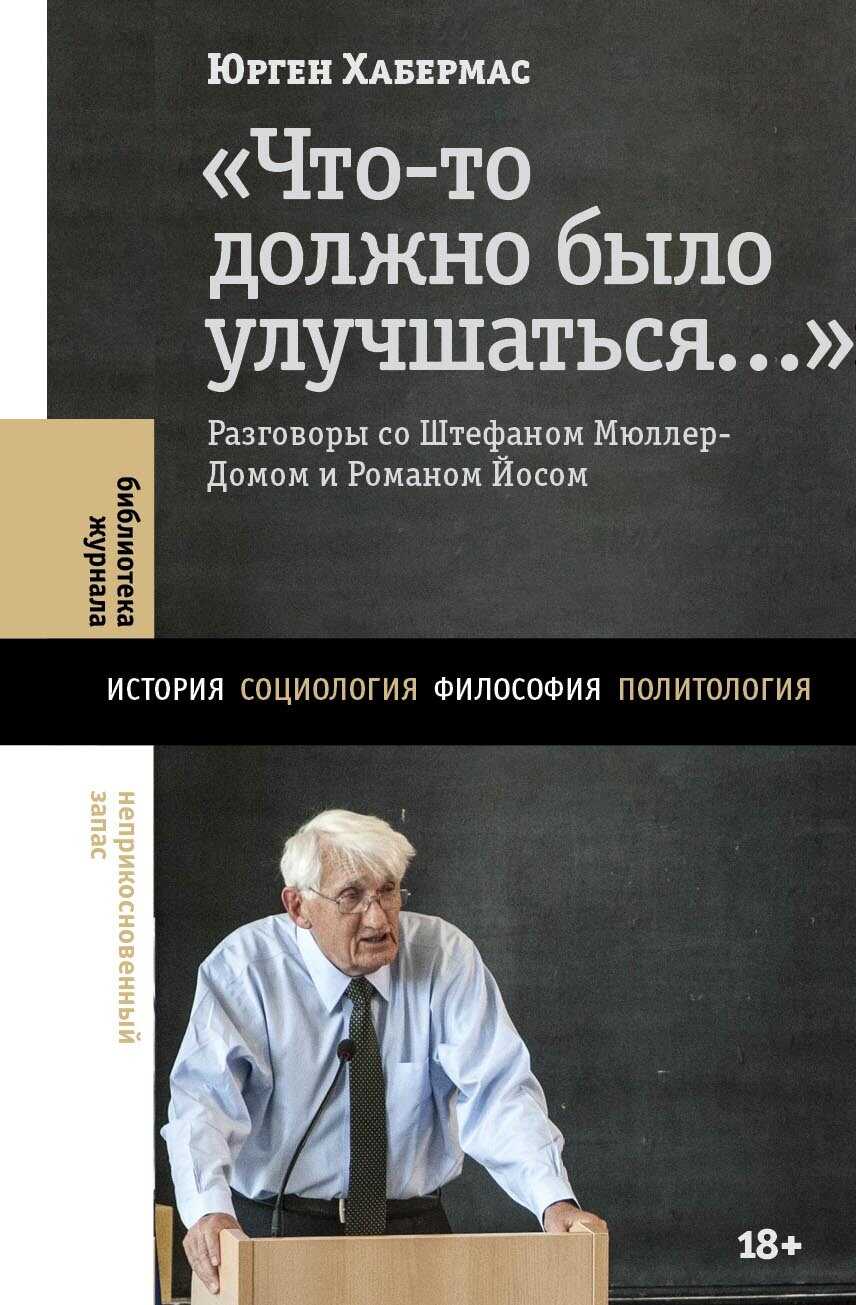Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"
Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
Ханна Арендт, конечно, была человеком необыкновенным, а особенно ею восхищался Ханс Йонас, ее близкий друг. Взгляд у нее был острый, а лицо настолько выразительное, что надолго оставалось в памяти. Было в ней что-то властное; манеры у Арендт были элитарные, а свои суждения (очень уверенные и подчас даже самоуверенные) она всегда высказывала прямо и без обиняков. Мировой славой она тогда еще не пользовалась, но в своей профессии и вообще среди специалистов уже добилась международного признания. Для широкой публики она оставалась воинственным интеллектуалом, и знали ее в первую очередь из‑за споров (с Шолемом в том числе) вокруг ее книги об Эйхмане, а также благодаря ее поддержке студенческого движения. Сама Арендт очень ценила свой статус; я это подметил, когда она пригласила на кофе нас с Уве Йонсоном (он в те годы писал на Манхэттене свои «Годовщины»). Там же присутствовал Генрих Блюхер (муж Ханны Арендт), и весь вечер мы трое просто сидели и молча слушали, как она ведет беседы с прославленным У. Х. Оденом, занявшим свое место напротив нее за маленьким столиком у окна. Но широкие контакты не меняли очевидного обстоятельства: Арендт вместе с Хансом Йонасом и Ароном Гурвичем входила в очень узкий круг, отчего эмигрантское самосознание и оставалось у них в неизменном виде. Гурвич пользовался большим авторитетом в тогда еще существовавшем «Phenomenological Society», а Йонас воспрянул духом чуть позже, когда его натурфилософские труды и разработанная у него экологическая этика нашли вдруг достаточно заметный отклик в Германии. Эта группа, как мне показалось, была во многом изолирована от общеамериканской философской среды, в рамках которой другие немецкие эмигранты (Карнап в первую очередь, но и Гемпель тоже) пользовались немалым влиянием. Видимо, в профессиональном смысле их мышление оставалось слишком континентальным. Но в самой «New School», на пике протестов против войны во Вьетнаме, студенты брались за Гегеля и Маркса, так что и от своих преподавателей они были в восторге – пусть даже свои радикальные политические потребности удовлетворять им приходилось в других местах.
В связи с Гершомом Шолемом, которого Вы успели упомянуть, нам вспоминается, что Вы несколько раз побывали в Израиле. Что для Вас означали эти поездки?
Да, Израиль – это был другой полюс. Гершом Шолем, когда мы с Уте впервые приехали в Иерусалим на его восьмидесятилетие (это был 1977 год), преподнес, можно сказать, весь свой город нам в подарок. От Академии он ухитрился получить машину с водителем и, как заправский экскурсовод, провез нас по всем районам и окрестностям этого в образцовом смысле «исторического» города; сам Шолем, как сионист, переехал на эти земли еще в 1923 году, а потом, между прочим, никогда не закрывал глаза на проблему изгнания палестинцев. Немецкое посольство в Тель-Авиве устроило церемонию в его честь, а дальше Шолем читал фрагменты из своих только вышедших тогда воспоминаний: «Из Берлина в Иерусалим»; среди собравшихся были сплошные немецкие эмигранты, так что на каждое название берлинских улиц зал реагировал с болезненным узнаванием. С тех пор я много раз бывал в Израиле, однажды мы всей семьей даже пробыли там несколько недель: меня пригласили прочитать курс лекций в иерусалимском Институте Ван Лера, где раньше я уже бывал и где познакомился с Иегудой Элкана. За эти несколько недель разразилась Ливанская война, так что мы увидели Израиль в турбулентном мобилизационном состоянии; это страна удивительной красоты, но – как нам довелось убедиться – по сути своей она постоянно пребывает в опасности. Воспоминания об Израиле, как ни об одной другой стране мира, отчетливо соотносятся у меня с настроениями и пластическими образами: помню похороны Шолема – открытое небо на вершине горы Скопус, длинная траурная процессия, и каждый кладет на могилу свой камень; помню, как сияло солнце и развевались флаги перед университетом, когда мне торжественно присваивали степень почетного доктора. В последний раз мы побывали в Иерусалиме в 2012 году: мне довелось тогда открывать в Академии цикл лекций по Буберу[1]. В Тель-Авив всегда приезжаешь с чувством облегчения – это один из самых современных городов мира, начавшийся с модернистской застройки в стиле баухауса, – но Иерусалим все равно притягивает к себе через какой-то неудержимый водоворот истории, которой этот город живет и дышит по сей день.
А что представляли собой Ваши отношения с Шолемом на интеллектуальном уровне? Повлияла ли каким-то образом его мысль на Ваши труды?
Среди израильских друзей и коллег Шолем, конечно, был мне особенно близок, и не только оттого, что всю свою жизнь – нельзя об этом не сказать! – он берег память о своем друге Вальтере Беньямине, которого Шолем почитал за настоящего мистика; и даже не только оттого, что он вместе с Гретель и Тедди Адорно работал над изданием беньяминовского наследия, которое пользовалось неожиданным на то время успехом[2]. Мы с Шолемом могли бы встретиться намного раньше, во Франкфуртском институте или в издательстве «Suhrkamp», но на деле знакомство произошло, если я правильно помню, лишь в 1963 году, когда Шолем сам пришел ко мне с вопросом по поводу одного примечания. К тому времени я прочел книгу Шолема «Иудейская мистика в ее основных течениях» и узнал оттуда о любопытнейших совпадениях у таких далеких современников, как Якоб Бёме и Исаак Лурия; на этот интересный факт я сослался в одной из своих статей. Как удивительным образом оказалось, в одном из примечаний я сумел подобрать какую-то удачную формулировку, которая, очевидно незаслуженным образом, принесла мне всецелое уважение со стороны самого Шолема. Из первой симпатии, которую я всегда считал подарком судьбы, зародилась долгая дружба семьями; потом многократно мы навещали друг друга. В более поздние годы Шолем (чаще всего со своей женой Фанией) регулярно заезжал к нам в Штарнберг, когда возвращался из Цюриха, где вел исследования. Он всегда привозил нашим детям дорогие конфеты с Банхофштрассе, и всегда с шутливой просьбой сначала их попробовать самому.
О чем вы с Шолемом говорили при первой встрече во Франкфурте, которую Вы сейчас упомянули?
Он захотел со мной поговорить по прочтении моей статьи о Шеллинге из «Теории и практики»[3]. Мистическая идея о сжатии божества – то есть о его самоограничении, благодаря которому еще до всякого сотворения уже существовала некая «природа в боге» или некое «ничто», – играла заметную роль в натурфилософском мышлении немецких идеалистов и в более позднем материалистическом повороте. В упомянутой книге Шолема я нашел рассказ о любопытном визите швабского пиетиста Этингера к раввину во франкфуртском еврейском квартале. Пиетистский богослов хотел побольше узнать об иудейском мистике Исааке Лурии, но раввин неожиданно посоветовал ему почитать современника Лурии Якоба Бёме, у которого можно найти очень схожие идеи. Мое внимание к таким вещам даже пробудило у Шолема интерес к давно забытой моей диссертации, и он, его собственными словами, «излюбопытствовал» у меня один экземпляр. Работами Шолема по иудейской мистике сам я заинтересовался через тот же мотив, который, должно быть, подталкивал самого автора всю жизнь исследовать эту антиномическую традицию – традицию преодоления зла через грех как таковой – вплоть до ее позднейших ответвлений в эпоху Французской революции: через убежденность (тоже в конечном счете имеющую религиозные основания) в том, что Просвещение только преображало мистические образы, а не поглощало их.
Можно ли, на Ваш взгляд, как-то обобщить значение личных контактов для философии в целом?
Наука живет за счет профессионального обмена знаниями между коллегами: будь то «лабораторная» работа у естествоиспытателей, «полевая» у социологов или «сидячая» у философов – перед письменным столом или на семинарах. В конечном счете важны только идеи. Но оригинальные идеи увязываются с личностями; причем привязка эта тем
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут