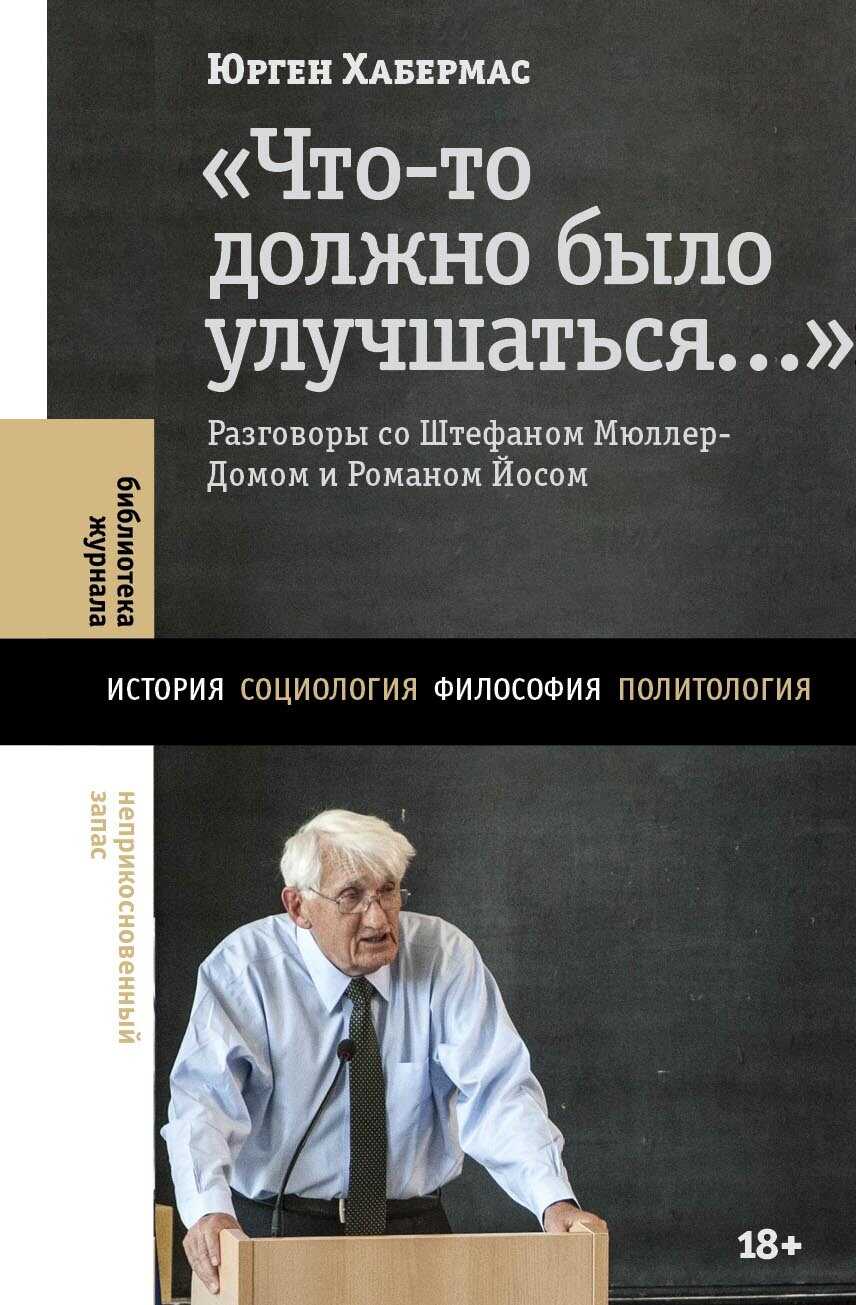Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"
Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
Все это вроде бы доработки теоретико-систематического плана. Но под конец книги не хотелось ли Вам замахнуться на большее?
Хотелось, но это «большее» одновременно есть нечто простое, даже, может быть, тривиальное, хотя далеко не очевидное (особенно в интеллектуальной среде): пессимизм в оценке нынешней ситуации вполне оправдан (у меня он, как вы могли заметить, тоже проявляется), не менее обоснован и скепсис относительно человеческого разума с его предполагаемой способностью хоть что-нибудь переменять в политике и в истории; нельзя тем не менее допустить, чтобы последнее слово осталось за пораженчеством! Речь не о том, чтобы банально прибавить оптимизма или пессимизма, – о моей склонности к последнему мы только что говорили! – нет, нужно ввести в дискурс хоть какую-то элементарную частицу доверия к нашему разуму и хоть в какой-то мере счесть приложение разума общечеловеческим долгом: ведь это наше оружие против одной совершенно возмутительной привычки, очень распространенной среди интеллектуалов, – привычки наслаждаться своим цинизмом, безучастным и всезнающим.
Та же основная интенция, если можно так говорить, прослеживается и во многих Ваших более ранних книгах…
О намерениях, целях и выводах любой книги говорить, конечно же, можно – для этого пишутся предисловия, введения, послесловия. Мой подступ к генеалогии постметафизического мышления можно рассматривать в том числе как дополнительный, исторически более глубокий вклад в разработку все той же темы, которой я фактически занимался еще со времен «Философского дискурса о модерне». Там я предпринял попытку вывести «нормативное содержание модерна», но это себя не оправдало. Теперь я уже обращаюсь к корням «всеобъемлющего» понятия о разуме, до сих пор рассмотренного у меня только в дискурсивно-теоретическом разрезе. Но вы, наверное, спрашиваете скорее о том, с какими проблемами можно неожиданно столкнуться, принимаясь за подобное дело, и можно ли скорректировать саму структуру, сам план будущей книги прямо во время работы.
Да, именно так.
Речь прежде всего идет о любопытной посреднической роли сакрального в разработке системы таких притязаний на значимость, которые в первую очередь проясняют социально-интегративную силу коммуникативного действия – то есть, главным образом, системы морали, но еще сюда же следует отнести пространные измерения этического и эстетического: сакральный потенциал значения уходит из них только в процессе секуляризации.
В «Теории коммуникативного действия» я сомкнул рациональную обязывающую силу достаточных оснований с обязывающей силой сакрального. Я предполагал, что обязывающая социальная сила тех притязаний на значимость, которыми мы пользуемся в коммуникативном действии и которыми сопровождаем свои высказывания, происходит изначально от подчиняющей силы священного, которая затем рационализировалась и стала чем-то повседневным.
Но теперь Вы смотрите на это иначе?
Работая над генеалогией постметафизического мышления, я вновь столкнулся с так и не решенным вопросом о происхождении языка и с этих позиций отчетливо увидел, насколько романтизированным и преувеличенным был мой тезис о сакральном, только что здесь пересказанный. С точки зрения эволюции все иначе: наш биологический вид в ходе бесконечно долгих периодов своего становления тем или иным образом подстраивался под модели языковой социализации, и сами его репродуктивные установки подразумевают собой вполне мирское происхождение языка из повседневной кооперации с ее требованиями и условиями. Скажем, во время охоты за крупной добычей для координации действий вполне могло доставать кратких сообщений (неожиданные наблюдения и вызовы) и, главное, предупреждающих окликов[12]. Это, конечно, не значит, что коммуникация на первых стадиях своего развития была строго ограничена когнитивным содержанием; в нормативном лексиконе отражались, скорее всего, естественные нормы, регулировавшие интеракцию внутри небольших родственных групп, – например, все, что связано с возрастными и половыми ролями. И если повседневная коммуникация имела мирское происхождение, то ритуальная жестовая коммуникация сохранялась на случай кризисов общественной интеграции, потенциально ведущих к распаду и аномии, к насилию и мятежу: это было своего рода «гарантийное обязательство» – предохранительный механизм, призванный поддержать общественное и нравственное единение. Можно предположить, что язык как коммуникативный посредник восходит к двойственному – одновременно профанному и сакральному – назначению символической жестовой коммуникации. Одно из последствий такого обстоятельства дел заключается во вторичном оязыковлении сакрального смыслового содержания, на что до сих пор указывают многие иллокутивные языковые элементы. Сложение мифов тоже, скорее всего, содействовало оязыковлению того смыслового потенциала, что находил свое выражение в ритуальной жестовой коммуникации[13].
Какие выводы Вы из этого делаете?
Если брать подобное предположение за основу, то оказывается, что действенно-координирующая сила притязаний на значимость от начала имеет, вопреки моим более ранним теориям, мирское происхождение; сакральный же комплекс возникает в этой системе совершенно иначе. Ритуалы и мифы не были по своему происхождению нравственными; сама ветреность богов явно на это указывает. Скорее они призваны были обеспечивать солидарность и тем самым поддерживать распадающиеся формы социальной интеграции в кризисные времена. Ритуал в древнейшие времена производил, по сравнению с повседневной моралью, иную форму солидарности. Исключительно важным делается в этом отношении сложное сцепление сакрального комплекса с изначально профанной нравственностью; впервые нечто подобное прослеживается в культурах Осевого времени. Именно к этому социально-эволюционному повороту я стремлюсь прорваться в своих построениях. На новом понятийном уровне – в саморефлексивном истолковании мира как такового – повседневная мораль слилась со сферой сакрального; эволюционный смысл такого слияния окончательно прояснился для меня только при работе над «Тоже историей философии»: власть сакрального стала в Осевую эпоху чем-то абстрактным и была положена в основу внутримирового событийного ряда; сама эта сакральная власть воспринималась уже как установившийся нравственный закон, как «благо» в чистом виде, а нравственность в то же время универсализировалась. Тех, кто придерживался подобной картины мира, нравственность (как составная часть цельного учения, обращенного в равной степени ко всем людям на свете) невиданным ранее образом подталкивала к эгалитарно-индивидуалистической универсализации.
Какое выражение все это находит в рамках Вашего проекта по генеалогии постметафизического мышления?
Специфическая посредническая роль сакрального, которую я только что описал, впервые проявила себя лишь в Осевой картине мира: все понятийные основания складывались и структурировались именно в эту эпоху. Наравне с морализацией сакрального исключительно важным представляется еще и увязывание сакрального авторитета с притязаниями картин мира на истинность. В центральных высказываниях, затрагивающих несущие, холистические понятия (такие, как «бог» или «единое» или «бытие»), значение достоверности истины растворяется в уже упомянутом слиянии с модусами значимости, имеющими двойственное происхождение: моральное – с одной стороны, и сакральное – с другой. В наполненном (inklusiv) импликациями понятии о метафизической истине само истинное неразрывно объединяется с благим и с прекрасным. С этим «усиленным» понятием об истине столкнулась в поздние времена и постметафизическая мысль эпохи модерна; оставалось либо сохранить один-единственный, максимально здравый модус значимости, затрагивающий пропозициональную истинность как мы теперь ее понимаем, либо оставить пространство оснований открытым, в том числе и для выражений практического разума. До сих пор на полных основаниях можно вести споры об обязующей значимости приказов, о ранге и привлекательности ценностных ориентаций, а также об эстетической аутентичности экстатических переживаний: по-настоящему отдать должное этому факту мы сумели только благодаря Канту, подтвердившему дифференциацию спектра значимостей.
Давайте поговорим еще об одном аспекте «Тоже истории философии». В первом томе Вы наглядно демонстрируете древние
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут