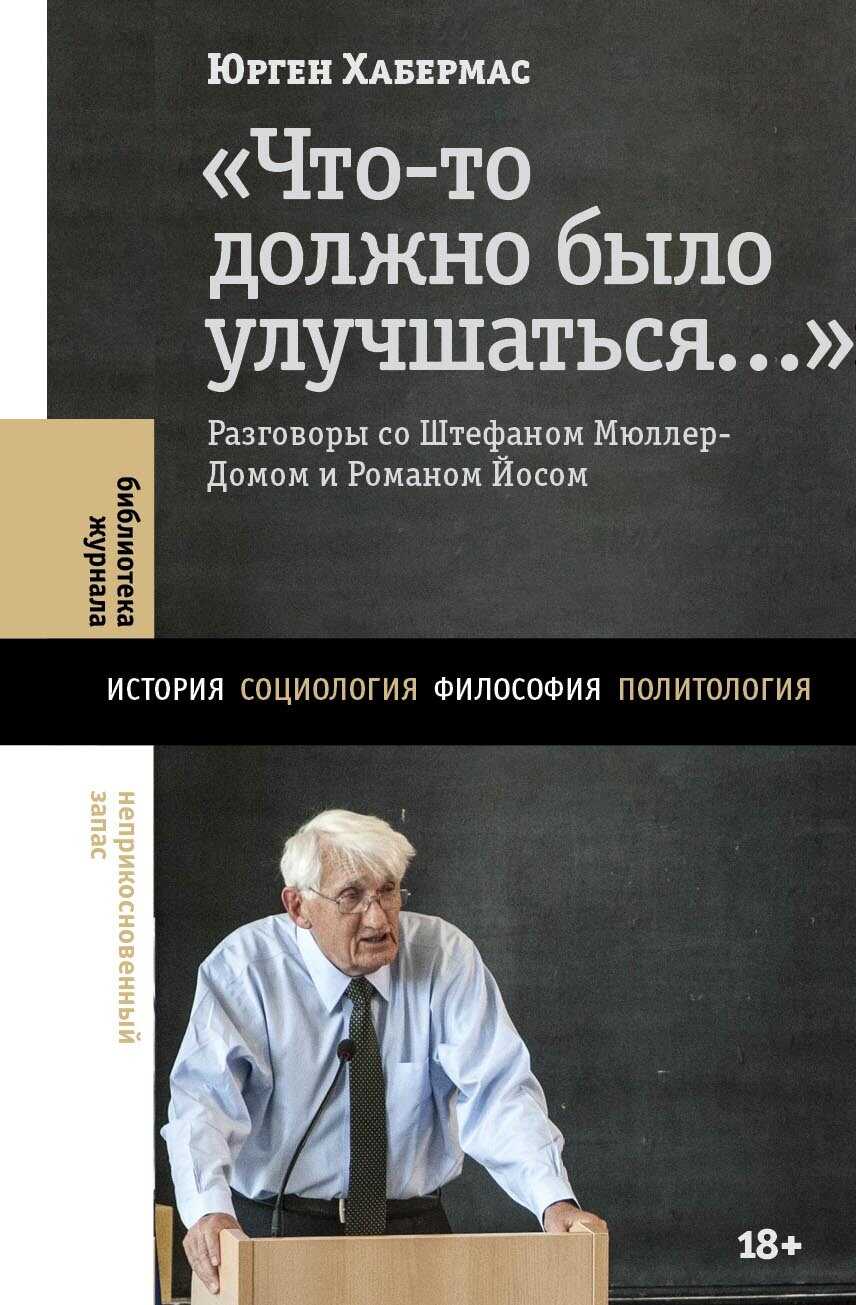Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"
Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.
Назначение на кафедру философии означало для меня профессиональную переориентировку. На тот момент я был социологом с докторской по политологии, а в плане социальной теории наследовал западному марксизму франкфуртского типа. Соответственно, в Гейдельберге я припоминал те свои философские познания и интересы, которые приобрел еще в Бонне, пока учился у Ротхаккера и Беккера. Связующим звеном стало чтение как раз тогда вышедшей главной книги Гадамера. Я сконцентрировался на второй части «Истины и метода», на оригинальном и тщательном анализе философской традиции и ее разумного освоения, но прочитывал этот раздел критически, не сообразуясь с авторским замыслом. Дело в том, что Гадамер напрямую обратил свою книгу против того ошибочного мнения, будто герменевтика есть гуманитарный метод; этот же самый труд я, со своей стороны, в методологическом смысле читал с точки зрения общественных наук. В третьем разделе я именно таким образом выделял остроумные герменевтические суждения из бытийно-исторических спекуляций, а затем переносил всю эту герменевтику (которая, на мой взгляд, далеко выходила за рамки юриспруденции и богословия с их классическими интерпретативными практиками) из гуманитарных наук в общественные. Так я нашел для себя особую философскую тему – логика общественных наук, – при разработке которой пригодились бы мои уже имевшиеся тогда социологические познания и впечатления.
Не могли бы Вы немного детальнее обозначить самые существенные теоретические векторы и повлиявшие на Вас философские идеи гейдельбергских времен?
Философская герменевтика в моей гейдельбергской преподавательской деятельности была лишь одним направлением из по крайней мере трех; чтобы все это систематизировать, я составил тогда реферативный обзор источников, который, правда, опубликован был только в 1967 году, в виде специального выпуска «Philosophische Rundschau»[22]. В 1960 году вышла не только гадамеровская «Истина и метод»; тогда же в «Suhrkamp» издали первый том «Сочинений» Витгенштейна, где был представлен мощный свод от «Трактата» до «Философских исследований», в целом структурирующий все витгенштейновское наследие; тогда же я прочитал «The Structure of Science» Эрнеста Нагеля[23] – общественно-научное обобщение неопозитивистской теории науки, восходящей к Карнапу и Венскому кружку: в Германии к этому примыкали еще работы Ганса Альберта с его собственным осмыслением главной книги Карла Поппера – «Логики научного исследования», вышедшей еще в 1934 году. Витгенштейна и процветшую в Англии аналитическую философию языка (ее представляли Ричард Хейр, Питер Стросон, Уильям Олстон, Георг фон Вригт и другие) мы с Апелем осмысляли как промежуточную позицию между континентальной герменевтикой и уже упомянутой аналитической теорией науки, в рамках которой «операция „понимание“» истолковывалась в эмпиристическом духе на основе модели Гемпеля–Оппенгейма. Вот, в общих чертах и в упрощенном виде, мой путь назад к философии. Карл-Отто, если не ошибаюсь, раньше меня воспринял две аналитические традиции, и, главное, именно он «открыл» Пирса как первопроходца в области прагматизма. На этом фоне, как бы то ни было, разворачивалась наша с Апелем дискуссия, из которой в первой половине шестидесятых годов вышли наши близкородственные теории о «познавательных интересах».
В Гейдельберге Вы впервые увидели университет глазами преподавателя. Что Вам в этом смысле удалось узнать по части академической организации?
Картина, с теперешней точки зрения, вырисовывается неоднозначная. Гейдельберг тогда еще воплощал собой «старонемецкий» университет; этот уклад распался только со студенческими выступлениями шестидесятых годов. Все началось с того, что однажды декан – со словами «Я слышал, что Ваши родные тоже уже приехали» – перед всем факультетом призвал меня, как это было принято, знакомиться семьями с каждым из коллег. Мы, к сожалению, не догадались просто изготовить визитные карточки, – а это хотя бы отчасти освободило бы нас от хождения по гостям – и отныне, весной и летом 1962 года, каждый воскресный полдень проводили достаточно утомительным образом: изучали назидательный образ старонемецких профессоров и их жен-помощниц – это был особый жизненный мир, загроможденный книгами и рукописями, очень достойный и очень скромный, нередко еще с печками и угольным отоплением. Мы слегка трепетали перед знаменитыми египтологами и историками культуры, поскольку стиль жизни у нас уже был «современным» и несколько более свободным. К Гадамеру это не относилось, поскольку сам он жил скорее в стиле крупной буржуазии; именно он и знакомил меня с обычаями почтенного университета. Однажды, например, он объяснил мне при случае, что в докторские диссертации коллег, выставленные на проверку, заглядывать не принято, даже если оценка кажется сомнительной. На выборы ректора мы в те времена все еще ходили в мантиях, а когда я спросил, кто баллотируется, мне ответили, что спрашивать нужно только у рядом стоящего и только о том, кого следует выбирать. Мне выделили секретаршу на полставки, и она вынуждена была ходить ко мне домой, поскольку в старом здании философского факультета было слишком тесно. На моей инаугурационной лекции[24] зал был переполнен – правда, в основном это были японские туристы: уже тогда они посещали Германию в великом множестве. Госпожа Штернбергер, которая осталась жить во Франкфурте и приезжала к мужу лишь ненадолго, уже в те годы жаловалась, что на главной улице не протолкнуться из‑за обилия туристов. В общем, эта среда – что городская, что университетская – очаровывала своими порядками, хорошими манерами и слегка музейным своим духом. Будучи молодым внештатным профессором под руководством двух выдающихся ординарных профессоров, Гадамера и Левита, в университетскую политику я не особенно погружался. Во Франкфурте, в поздние годы, атмосфера была суровее, а конфликты разыгрывались более открыто. Опыт был не самый приятный, и мы с Фридебургом, Деннингером и Витхельтером обратились в какой-то момент к тогдашнему гессенскому министру культуры с предложением о «демократизации» университетских уложений[25]. У этого обращения были весьма значительные и, скорее всего, неоднозначные последствия, о которых, признаюсь не без раскаяния, сам я так и не успел составить полноценного впечатления, поскольку вскоре после введения нового закона уже уехал в Штарнберг.
Какие у Вас остались воспоминания о Гадамере, Левите и Митчерлихе?
Именно с ними, помимо Краухов и Каловов, у меня сложились наиболее тесные и значимые личные отношения; причем Гейдельбергом ограничивались только любезно-светские контакты с супружеской четой Левит. С Гадамером я познакомился раньше: он предлагал мне должность ассистента, когда я еще только приехал во Франкфурт; связи у нас сложились довольно тесные, о чем свидетельствует и многолетняя переписка, продолжавшаяся до самой смерти Гадамера. С Митчерлихами, несмотря на разницу в возрасте на целые полпоколения, мы тоже, как я уже рассказывал, очень близко сдружились. Даже академические интересы у нас сходились скорее по дружбе. Всегда был какой-нибудь повод побеседовать о психоанализе, и Маргарете изо всех сил – но тщетно – уговаривала Уте выучиться на аналитика. Когда из Франкфурта мы переехали потом в Штернберг, Митчерлихи – и Александр в том числе – даже заскучали. Впрочем, хотя встречаться мы стали реже, сама дружба от нашего отъезда не пострадала. В отношениях с Левитом и Гадамером не было такой естественной близости и всегда хотя бы отчасти сохранялась определенная дистанция, присущая дружбе с учителями и крупными авторами,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут