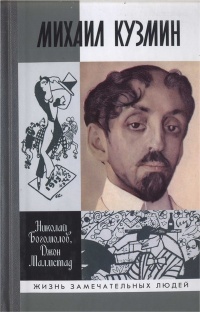Читать книгу - "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова"
Аннотация к книге "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).
Дневник взаимодействует и с кузминской поэзией тех лет. Сокращение дневниковой записи и превращение ее в хроникальную заметку, которая нередко ограничивается лишь упоминаниями приходящих гостей, перемежаемыми сетованиями на жизнь, характерна для конца 1910-х годов. Приведем несколько примеров:
Поехали не рано. Мухины обедали, собирались куда-то, были без денег, расстроены и нам, кажется, не очень рады. Я думаю, Вал<ентина> Михайл<овна> главным образом побаивается, как бы мы не обобрали Серг<ея> Алекс<андровича>. Пошли на луг. Потом к Там<аре> Мих<айловне>. У них неплохо. Пили чай, был там Чернявский. Болтали еще уютно. Нужно было добывать денег. У Пронина полный развал и безденежье. Зашли еще к Шайкевичам. Угодили на обед; полный стол родственных жидов. Потом карты. Рано уехали.
40 р. (21 июля 1918 г.);
Что же было? Не помню. Кажется, ничего, но денег нет и нет книг и чая. Бегали отыскивать. Нет. Зашли вечером к Лулу. Там Чернявские, Чернова. Читал стихи я. Роза Львовна плакала. Взял книги. Да, ходил к Алекс<ею> Ивановичу. Он отклонил. Ужасно это. Что же было еще? но что-то было (22 мая 1919 г.);
Что же было. Выбежал за хлебом, но хлеба не нашел. Купил булок, а хлеб у мамаши спрятан. Еще с Юр. ходили. Приятно утром ходить, только все заперто. Прошелся и по рынку, но долго все это. Что же делали еще. Встретили Ландау. Что же мы делали? Господи, что же мы делали? Нигде, кажется, не были. Ели еще пасху на Невском, много слонялись. Денег у меня мало. Выходили покупать масло и т. п. Вести морские разные не плохие (15 июня 1919 г.)[800].
Своеобразное преломление этой манеры можно увидеть, с одной стороны, в кузминских «каталогах» лирики 1919 года (цикл «Плен»). В перечислении бытовых реалий, действий и окружающих предметов можно видеть не только копинговую стратегию и заклинание действительности, но и медленную фиксацию лирическим сознанием раздробления реальности, исчезновения сути жизни, скрепляющей все происходящее. Кузминские «списки» – это еще и хроника превращения человека в немыслящее создание, ограниченное заботами о насущном и едва чувствительное к красоте и творчеству:
Затоптанные
Даже не сапогами,
Не лаптями,
А краденными с чужой ноги ботинками,
Живем свободные,
Дрожим у нетопленной печи
(Вдохновенье).
Ходим впотьмах к таким же дрожащим друзьям.
Их так мало, —
Едим отбросы, жадно косясь на чужой кусок.
Туп ум,
Не слышит уже ударов.
Нет ни битв, ни пожаров.
(«Ангел благовествующий»).
В стихотворении «Декабрь морозит в небе розовом…» (1920) есть схожие с дневниковыми записями риторические ходы. Строгая референция записей прерывается восклицаниями, которые не нуждаются в ответе, и жалобами, замкнутыми на озвучившем их; переход между этими модусами говорения происходит немотивированно, как и в дневнике (см. выше запись от 15 июня 1919 года):
Декабрь морозит в небе розовом,
Нетопленный мрачнеет дом.
А мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию и ждем.
И ждем чего? самим известно ли?
Какой спасительной руки?
Уж взбухнувшие пальцы треснули
И развалились башмаки.
Дневник 1918–1920 годов обнаруживает гораздо большее число текстуальных совпадений и параллелей с кузминским творчеством, чем проза. Ранее подобная ситуация была характерна как раз для творчества начала 1900-х годов. Однако маловероятно, что, как и в условном 1906 году, Кузмин намеренно объединял жизнь и творчество в рамках модернистской стратегии. Скорее, мы видим обратную ситуацию с аналогичным результатом: к слиянию дневника и поэзии приводило предельное напряжение душевных и жизненных сил. Стихи этих лет можно считать метакомментарием к дневнику – фиксируя хронику своего распада, Кузмин осмысляет ее в поэзии, вынося себе и действительности неутешительный приговор, и одновременно преодолевает этот распад в новом творческом акте. Так дневник становится лабораторией также и кузминской поэзии, однако со временем не поглощает ее. (Вероятно, это можно объяснить более высоким статусом поэзии в творческой системе Кузмина как более совершенного искусства по сравнению с прозой.) Следовательно, краткая и скупая фиксация событий в дневнике – это не результат утрат, а намеренно реализуемая творческая стратегия, которую автор не считал нужным менять.
В 1910–1920-х годах, не считая короткого периода 1918–1920 годов, Кузмин четко отграничивает творчество от жизни – в эти годы в дневниковые записи редко попадают упоминания художественных текстов, не говоря уже об их замыслах (эти вещи Кузмин фиксировал в записных книжках и рабочих тетрадях[801]), что особенно заметно на фоне слияния художественной прозы и дневника в период жизни писателя на «башне». Стилистически неоднородный, погруженный в быт и дрязги, дневник Кузмина разрушает не только литературную репутацию изящного эстета, сложившуюся в 1900-е годы, но и в целом жизнетворческий проект начала XX века. Намеренно показывая себя вне своего творчества, в контексте живой и зачастую неприглядной жизни, Кузмин совершает акт большой открытости, выступая перед читателем прежде всего несовершенным человеком, обывателем, а не писателем, поэтом или композитором[802]. Подобной искренности русская традиция до кузминского дневника не знала. Можно сказать, что в дневнике Кузмин реализует не только художественный, но и более масштабный эстетический проект, начатый в творчестве и критике 1910-х годов с установки «писать ни о чем» и ведущий к появлению нового типа автора и установлению новых отношений между жизнью и творчеством. Кузмин в какой-то момент сознательно отказывается писать последовательную хронику жизни и создает принципиально новую нефикциональную форму. Так дневник подспудно обретает особый статус в творческой системе Кузмина. Теснее прочих текстов автора связанный с действительностью, прямо погруженный в современность и моментально фиксирующий происходящее, он
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн