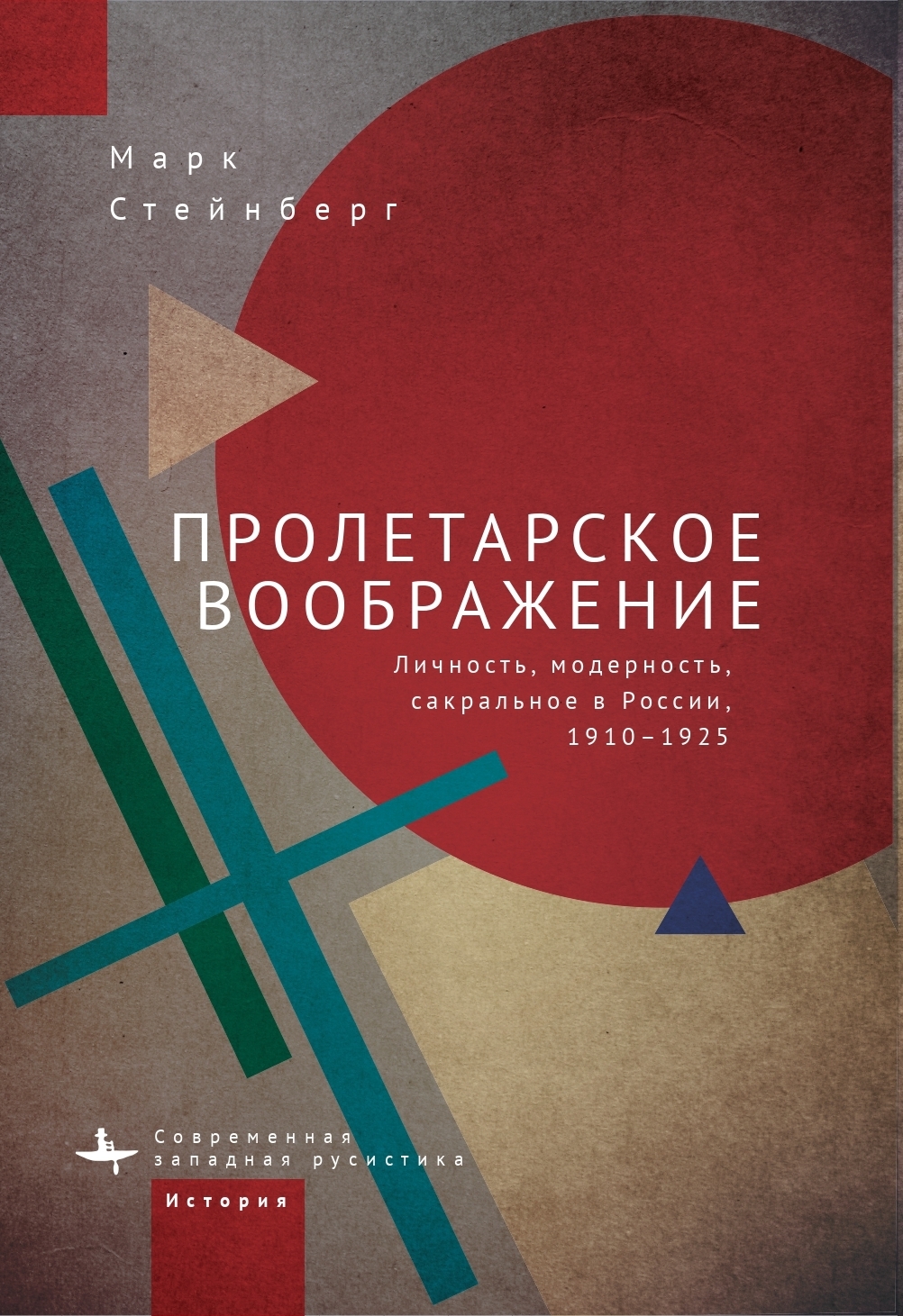Читать книгу - "Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925 - Марк Д. Стейнберг"
Аннотация к книге "Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925 - Марк Д. Стейнберг", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В своей книге исследователь русской революции и русского утопизма Марк Стейнберг обращается к творчеству пролетарских поэтов и писателей. По мнению автора, стихи и прозаические тексты выходцев из рабочего класса часто не соответствовали тому, чего ожидали от них представители левой интеллигенции, но тщательно препарировали философский и нравственный кризис в России первой четверти XX века и предлагали возможные пути выхода из него.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Как можно заметить, дискурс страдания являлся неоднозначным и содержал противоречивые смыслы. Марксистские и советские литературоведы усматривали в пролетарской одержимости страдающей личностью прежде всего стоическую пассивность и фатализм, свойственные крестьянской традиции. Во многом они были правы. Подобно традиционным похоронным песням крестьян – плачам, – эти стихи и рассказы выполняли катарсическую функцию, позволяли и авторам, и читателям справиться с трудностями путем проговаривания их. Кроме того, нет сомнения, что писатели из простого народа находились под влиянием хорошо известных им христианских учений о неизбежности человеческих страданий в этом грешном мире. Как сетовал Михаил Савин, слишком долго рабочие видели причину своих несчастий в судьбе, а не в «купецком кулаке» [Савин 1906d: 13][147]. Развив эти соображения с позиции идеологии, советские литературоведы стали утверждать, что культ страдания не может быть истинно «пролетарским». Определяя пролетарское мировоззрение скорее идеологически – как выражающее определенное видение жизни, в котором присутствует отвага, оптимизм, коллективизм и установка на активные действия, – чем социологически – как мировоззрение реальных рабочих, – эти критики могли с большей легкостью объявить мрачную эстетику страдания нетипичной для пролетариата и вывести ее за рамки «пролетарского» канона или по крайней мере отнести пессимистические мысли и настроения к ранней стадии становления сознательного рабочего класса. Сосредоточенность на страдании, рассуждали марксисты, это черта, характерная либо для рабочего класса до революции 1905 года, после которой он пробудился, либо для рабочих, имевших крестьянское происхождение. Если тема страдания выходила за указанные рамки – а она, безусловно, выходила, – то рассматривалась как признак «ложного сознания», как заблуждение[148]. Эти политические манипуляции с формулировкой пролетарского мировоззрения в какой-то мере продиктованы идеологическим стереотипом о том, каким должно быть классовое самосознание. Гораздо хуже то, что подобные манипуляции свидетельствуют о полной слепоте по отношению к мыслям и настроениям рабочих во всей их сложности, в том числе к тому вниманию, которое рабочие уделяли личным страданиям, и к тому значению, которое им придавали.
Выраженная в слове скорбь может обладать протестной, трансгрессивной и вдохновляющей силой. Разумеется, то же самое можно сказать о более широкой культурной традиции: даже в русских народных плачах сочетались разные мотивы – от несогласия до смирения перед судьбой [Frank, Steinberg 1994:24]. Иногда фатализм приобретал ярко выраженный характер (что могло при достаточной бдительности цензора послужить причиной запрета публикации). Например, в стихотворении Нечаева «На работу» (написанном в 1881 году, но разрешенном к публикации только в 1919 году) молодой рабочий пытается убедить товарища, который предлагает совершить коллективное самоубийство, что такие мысли внушает дьявол, и напоминает ему христианскую заповедь: «За грехи отцов до смерти / Нам страданья суждены», в ответ на что слышит горькую отповедь: все это «сказки», поповский обман[149]. Такой же вывод напрашивается из рассказа М. Захарова (1911) о бездомном, которого возмущают «слова знаменитого философа» о том, что «жизнь – беспрерывный ряд страданий», что «жизнь есть – тяжелый долг» [Захаров 1911: 5]. Конечно, отказ от подобных утешений не помогал примириться со страданиями: самоубийства ведь были не просто поэтическим образом, о чем свидетельствуют газеты тех лет. В то же самое время в религиозных поучениях говорилось не только о неизбежности страданий и пассивном приятии своей судьбы. В христианской традиции страдание получало положительную оценку как подражание страстям Христа и святых мучеников, сулило надежду на искупление, обещанное Христом. В России эти традиции осложнялись влиянием другой распространенной культурной тенденции – существованием «гражданской» поэзии и журналистики, проникнутых сочувствием к страданиям народа и критикой общества. Поэтам и журналистам вторили народные песни, которые будили жалость (и жалость к себе) как орудие критики. Более того, писатели из низших классов трансформировали эту традицию, превратившись из безмолвных объектов попечения и заботы в говорящих субъектов, которые сами высказываются, в активных граждан и участников дискурса.
Следует иметь в виду, что почти все эти тексты предназначались для публикации в массовых газетах и журналах для простых читателей из народа и создавались в расчете на них. В глазах правительственной цензуры обычная хроника страданий бедных и эксплуатируемых классов сама по себе содержала скрытый вызов властям и протест. Отсюда понятно, почему многие рабочие авторы явно гордились тем, что «воспевают страдания», и видели свой долг в том, чтобы свидетельствовать о несправедливостях и неравенстве, напоминать о достоинстве простого человека. Е. Нечаев писал в 1906 году: «Нет, веселых напевов не жди от меня, / Друг, не в силах утешить тебя. / Научился я петь в пору грозного дня, / И умом, и душою скорбя» [Нечаев 1965: 89]. Ему вторили А. Поморский: «Я певец рабочих масс / Незавидная песнь моя! / Не цветы пою, не солнце – / Воспеваю сумрак я!» [Поморский 1913с: 4] и П. Зайцев: «Пусть другие веселятся / Пусть стаканами звенят! / <…> / Не способны мы к веселью / Слов нам нежных не сказать / Мы умеем лишь работать / Да безропотно страдать» [Зайцев 1911а: 2].
Интеллектуальным ядром нравственного негодования, выраженного в этих текстах, являлась личность, ее этическая ценность или, говоря точнее, конкретное представление о личности как о вместилище эмоций, творческого духа, духовной высоты, индивидуального достоинства и, следовательно, как о главной моральной мере всех вещей. Рабочие авторы, судя по всему, усматривали в страданиях не только доказательство тяжкой доли простого человека, но и доказательство наличия у него души, отчего тяжкая доля воспринимается им как психологическая травма и моральная несправедливость. Учитывать личность – значит признавать за ней онтологическую и этическую значимость, принимать ее за точку отсчета при понимании и оценке мира. Вот почему рабочие авторы так много внимания уделяли личности, ее общественному и духовному становлению. Весьма примечательно, что Сергей Обрадович написал первую автобиографию в возрасте 16 лет, а начал задумываться о подобном акте саморефлексии и запечатления себя, когда едва научился грамоте[150]. Как уже было отмечено, чтобы говорить о страданиях, необходимо «вступить в контакт с внутренним незнакомцем»[151]и напомнить себе и читателям о великом зле тех условий, которые калечат личность. Другими словами, описание ежедневных тягот жизни низших классов, написанное языком травмированной личности, помогало рабочим авторам конструировать ярко выраженную и востребованную моральную идентичность. Страдания, с одной стороны, являлись характеристикой важнейшего жизненного опыта, присущего рабочим и беднякам, и показателем того, что у них имеется душа, а с другой стороны, обличали нищету и эксплуатацию как зло, причиняемое
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн