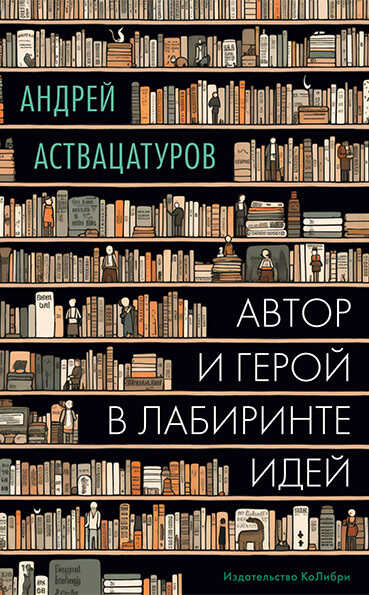Читать книгу - "Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров"
Аннотация к книге "Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Имя Андрея Аствацатурова, литературоведа, профессора СПбГУ, хорошо известно не только в профессиональной филологической среде: он автор книг и статей об англо-американской литературе, романов «Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах», «Не кормите и не трогайте пеликанов». В новой книге Андрей Аствацатуров обращается к творчеству классиков ХХ века, а также современных русских писателей.Сочетание серьезной проблематики и увлекательной манеры изложения, благодаря которому Аствацатуров известен как блестящий лектор, присутствует и в его литературоведческих работах. Виртуозный анализ позволяет увидеть парадоксы, казалось бы, в хрестоматийных произведениях англо-американских модернистов – Генри Миллера, Эрнеста Хемингуэя, Джерома Дэвида Сэлинджера, Курта Воннегута, Джона Апдайка. А современные русские авторы самым неожиданным образом оказываются их наследниками: в уголовном рассказе Романа Сенчина проступает сюжет «Трамвая „Желание“» Теннесси Уильямса, а летописец русского зарубежья Андрей Иванов предстает русским Генри Миллером. Книга адресована широкому кругу читателей – и филологам, и тем, кто хотел бы лучше понимать произведения мировой классики, познакомиться с самыми яркими именами современной русской литературы и ощутить прихотливую логику литературного процесса.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Ранний немецкий романтизм, всегда интересовавший Миллера, видел ребенка невинным, еще не пережившим внутреннего грехопадения, не захваченным расчленяющим мир рассудком. Ребенок уподобляется пророку, поэту, наделенному мистическим чувством, воображением, изначальными способностями, которые были свойственны человеку в эпоху блаженного золотого века[269]. Детство в романтизме, вне всякого сомнения, – счастливая, райская пора. Данная традиция мифологизации детства, младенчества присутствует также в текстах американских литераторов XIX века, повлиявших на Миллера: Эмерсона[270], Торо и Уитмена. Младенец или ребенок наделен, в их понимании, целостным сознанием, ощущением сопричастности первозданной природе, вещам, Богу.
Особое место в литературе о детстве занимают произведения американца Марка Твена (1835–1910), привлекавшие внимание Миллера, в частности роман «Приключения Тома Сойера» (1876). Твен, отчасти ориентируясь, отчасти полемизируя с американской традицией репрезентации мальчика в качестве главного героя[271], акцентирует в своих персонажах предельную естественность их поведения[272]. Твеновские мальчики (Том и Гек) наделены цельностью восприятия жизни, непосредственностью оценок ее проявлений[273]. Они не только «вносят романтику приключений»[274] в будничный мир, но и мифологизируют реальность, заставляя читателей ощутить зыбкость границы, разделяющей воображаемое и реальное[275]. Мир взрослых на этом фоне выглядит как пуританское, строго регламентированное, дисциплинарное пространство с фальшивыми идеалами и предписаниями, находящими отражение в нудных религиозных проповедях и бессмысленной муштре, которой дети подвергаются в школе и дома.
Тенденция мифологизировать детское сознание была несколько поколеблена натурализмом, но она по-прежнему сохраняется в искусстве и обретает новое звучание в сюрреализме, опыт которого был столь важен для Миллера. В «Манифесте сюрреализма» (1924) Андре Бретон (1896–1966), поддерживая романтический миф, высказывает идеи, которым будут созвучны и рассуждения Миллера: «Именно в детстве, в силу отсутствия всякого принуждения, перед человеком открывается возможность прожить несколько жизней одновременно, и он целиком погружается в эту иллюзию; он хочет, чтобы любая вещь давалась ему предельно легко, немедленно. Каждое утро дети просыпаются в полной безмятежности. Им все доступно, самые скверные материальные условия кажутся превосходными. Леса светлы или темны, никогда не наступит сон»[276]. Детство, по мысли Бретона, максимально близко подлинной жизни и связано с ощущением самотождественности[277].
В XX веке данный миф подвергся радикальному пересмотру старшими современниками Миллера. Джеймс Джойс (1882–1941), один из самых важных для автора «Тропика Козерога» европейских писателей, в сборнике рассказов «Дублинцы» и в романе «Портрет художника в юности», безусловно, отдает дань романтической традиции описания сознания ребенка, но исключительно с целью ее препарировать, представить как текст, расхожий стереотип, отторгаемый реальностью[278]. Джойс заставляет читателя убедиться, что на равных правах с этим стереотипом могут существовать и другие, в частности фрейдистский: его героев терзают различные комплексы. Так, роман «Портрет художника в юности» проникнут мотивом неосознанного влечения Стивена Дедала к матери. Марсель Пруст (1871–1922), стремившийся к психологической достоверности и воссозданию всех нюансов эмоционального переживания, также избавляется в своем знаменитом романном цикле «В поисках утраченного времени» от предвзятости романтического мифологизирования. Но, описывая внутренний мир ребенка, Пруст в целом сохраняет представление о детстве как о поре невинности и о времени, исполненном идиллического покоя.
Достаточно резким в этом отношении ответом Прусту стал роман Андре Жида (1869–1951) «Фальшивомонетчики» (1925). В нем детство предстает не как идиллический период счастливой безмятежности, а как самый тяжелый и травматичный этап развития личности. Сознание ребенка в романе выглядит вместилищем разного рода комплексов, патологий, влечений, которые, сталкиваясь с миром «сверх-я», не могут найти адекватного, социально приемлемого выхода. Это приводит юных персонажей романа к неврозам, неизлечимым травмам и даже к самоубийству. Ирония Жида, заставляющего сознание своих героев слишком уж точно соответствовать фрейдистским установкам, а читателя воспринять его роман как самодостаточное игровое поле, ничуть не снимает остроты поставленной проблемы. Жид, подчеркивая искусственность, сделанность своего мира, дает нам понять, что можно создать систему, поразительно напоминающую повседневный мир, в которой образ детства окажется непривычным, расходящимся с общепринятыми представлениями.
Линию Андре Жида с его пониманием детства как кошмара поддерживает в своем романе «Смерть в кредит» (1936) Луи-Фердинанд Селин (1894–1961), отчасти опираясь, как и Жид, на идеи Фрейда. Мир детства Селин, подобно Чарльзу Диккенсу, помещает в отвратительный и грязный мир взрослых, где человекообразные существа ведут между собой борьбу за выживание. Но Селин, в отличие от Диккенса, далек от того, чтобы противопоставлять изначально добрую, свободную душу невинного и неиспорченного ребенка несвободе и порокам окружающего мира. Ребенок в романах «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» – проявление биологической нейтральной силы, и потому сам он этически нейтрален. «Ребенок у Селина, – отмечает М. Н. Недосейкин, – похож на того актера, который еще не знает своей роли. Он чистая потенциальность, по поводу которой еще ничего не известно. Его основная ценность в том, что еще никем не стал, еще не вступил в жизнь»[279]. Проблема лишь в том, что этой «потенциальности» не дают, как это происходит в романе «Смерть в кредит», возможности реализоваться находящиеся рядом человеческие существа. Отсюда – детские психологически травмы и переживания. Но мучения ребенка преподносятся Селином как страдания хищного животного, еще недостаточно могучего, у которого более сильные сородичи отобрали пойманную добычу.
В целом Миллер следует романтической традиции описания детства и сознания ребенка. Опираясь, подобно романтикам, на представление о единстве макро- и микрокосма и полагая индивидуальную человеческую жизнь моделью истории (деградации мировой силы), Миллер уподобляет детство идеальному пра-миру (в романтической традиции это золотой век), безвозвратно утраченному людьми[280]. Миллеровские дети обладают теми же свойствами, что и романтическое дитя, с той лишь разницей, что их сознание не устремлено в трансцендентную область. Оно неразрывно связано с материей внешнего мира, движущейся и становящейся. Поэтому дети выглядят неизмеримо более «земными» и связанными с посюсторонней реальностью, с тривиальной повседневностью, нежели романтические младенцы. Миллер лишь обновляет старый романтический миф, но делает это с оглядкой на Джойса, Жида и Селина[281]. Вместе с тем он идет гораздо дальше, чем Пруст, который сохраняет романтические иллюзии, представляя детство миром чистой радости. Пруст, безусловно, насыщает атмосферу идиллического детства земными чувственными переживаниями ребенка, описывая их как инициации, как мгновения приобщения к непреходящему. Все это можно обнаружить и в «Тропике Козерога». Однако Миллер не случайно строит свое описание детства во многом на иронических отсылках к «Поискам утраченного времени». В его романе детство сопряжено не только с земными радостями невинного ребенка, но и с жестокостью, насилием, абсурдом жизни, грубой чувственностью, эротизмом, физиологическими реакциями растущего организма и т. п. В миллеровском ребенке неизмеримо больше
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
-
 Гость Елена12 июнь 19:12
Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗
Поклонник - Анна Джейн
Гость Елена12 июнь 19:12
Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗
Поклонник - Анна Джейн
-
 Гость24 май 20:12
Супер! Читайте, не пожалеете
Правила нежных предательств - Инга Максимовская
Гость24 май 20:12
Супер! Читайте, не пожалеете
Правила нежных предательств - Инга Максимовская
-
 Гость Наталья21 май 03:36
Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.
Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная
Гость Наталья21 май 03:36
Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.
Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная