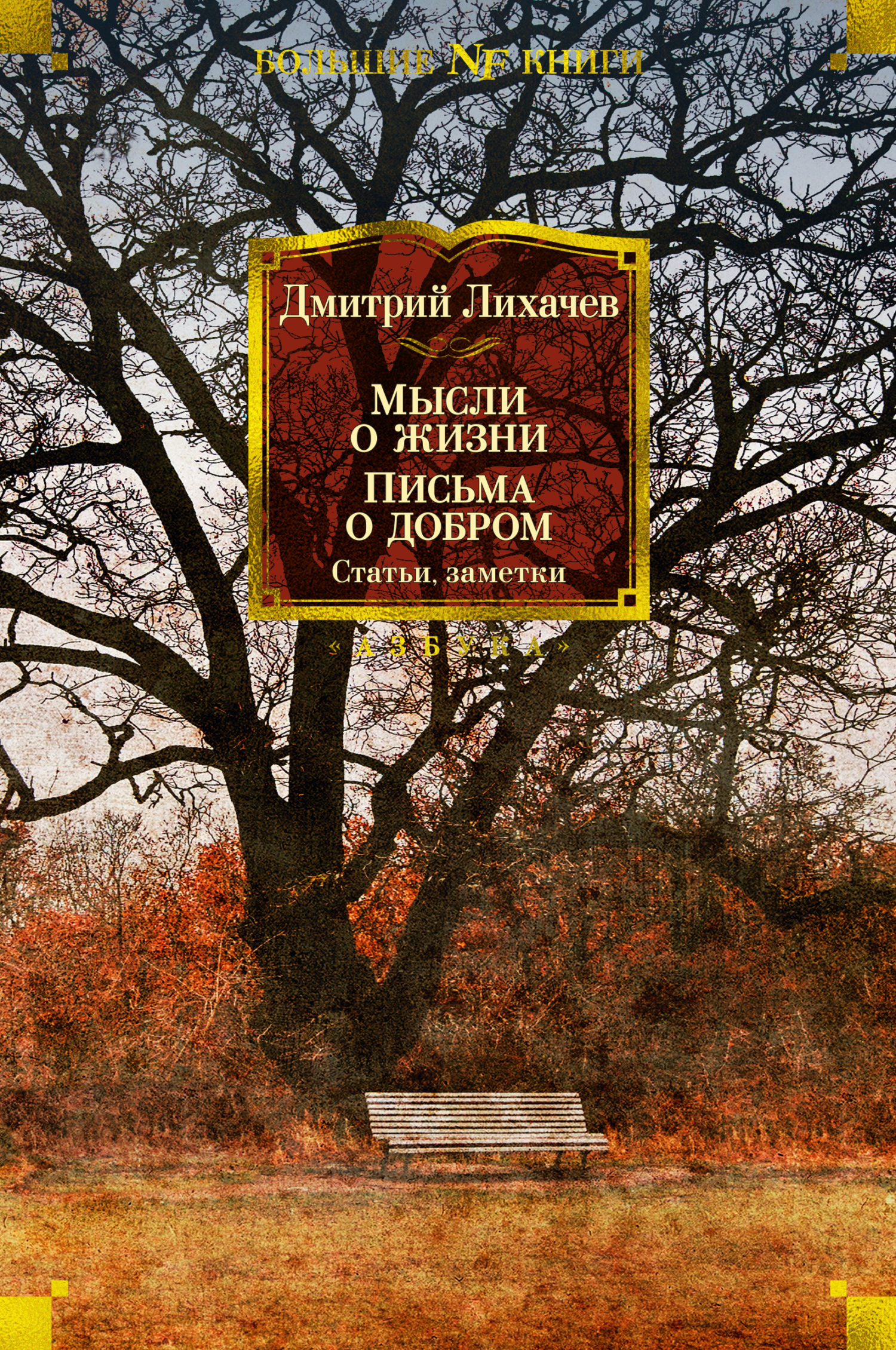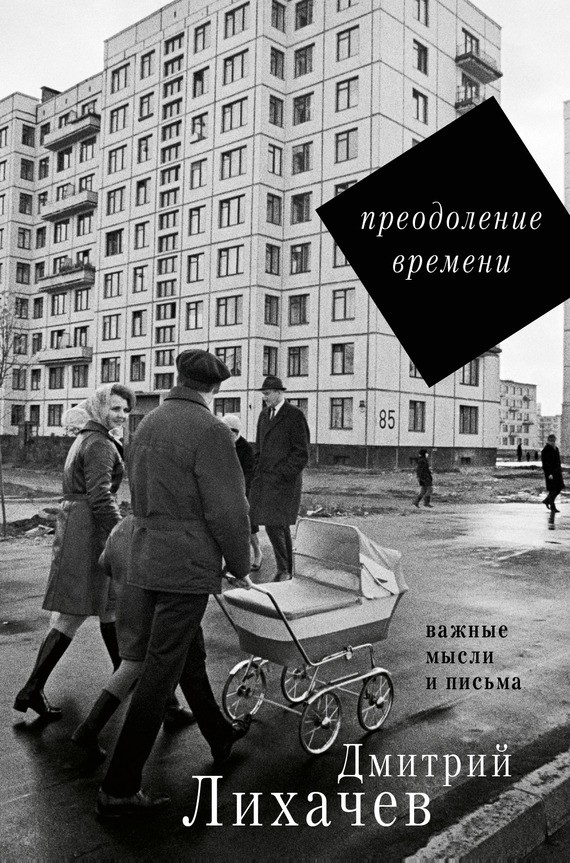Читать книгу - "Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки - Дмитрий Сергеевич Лихачев"
Аннотация к книге "Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки - Дмитрий Сергеевич Лихачев", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Имя Дмитрия Сергеевича Лихачева, одного из крупнейших ученых XX века, известно во всем мире и давно стало символом научного и духовного просвещения. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад, до садово-парковых стилей XVIII-XIX веков. Он никогда не был равнодушным к происходящим вокруг событиям и говорил о себе: «Всю жизнь я не оставался наблюдателем. Мне всегда надо было быть участником. Всегда вмешивался и получал шишки. Но если бы шишек не было, был бы несчастнее. А когда добивался – получал радость». Воспоминания «Мысли о жизни» стати едва ли не летописью XX столетия, вобрав в себя важнейшие вехи в истории нашей страны: петербургское детство, юность в лагере на Соловках, строительство Беломорско-Балтийского канала, блокада Ленинграда, полувековой научный труд в Пушкинском Доме… В «Письмах о добром», статьях и заметках разных лет Д. С. Лихачев, выходя за пределы «чистой науки», размышляет на темы, важные для каждого человека: о красоте окружающего мира, об искусстве, о смысле жизни, историческом прошлом и культурной памяти. Д. С. Лихачеву было свойственно умение говорить понятно и просто о самых сложных вопросах, именно поэтому его книги востребованы не только в профессиональной среде и так любимы читателями.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Пикассо в интервью Мариусу де Зайас в 1923 году говорил: «Все, что я когда-либо делал, я делал для настоящего и с надеждой, что оно всегда останется настоящим» (Robin Duthy. Picasso’s prints – Connoisseur, 1983, February).
Все искусства – это одно искусство. Все науки – это одна наука. Поэтому талантливый в одном – талантлив и в другом (Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ломоносов). Удивительно, что гениальные балерины и художники – прекрасные писатели (Коровин, Карсавина, Петров-Водкин, А. Бенуа и др.).
Б. М. Эйхенбаум в статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя» пишет, что гротеск требует замкнутости произведения, его отгороженности от остального мира (с. 322 в кн. «О прозе»). «Миргород – фантастический гротескный город, совершенно отгороженный от всего мира».
Но то же в иконе. Мир иконы – мир не похожий на остальной мир. Поэтому икона вещь (картина на холсте не вещь, а изображение), она имеет лузгу и поля, ее композиция замкнута и насыщена, нет воздуха, свободного пространства, которое могло бы соединиться с остальным миром.
Здесь действует «закон цельности изображения», типичный для древнерусской литературы.
Некоторые книги, прочитанные мною еще в молодые годы, запали мне в душу, хотя и автор неизвестный и тема иногда странная. Запомнилась мне книга (вернее – брошюрка) какого-то Селиванова «Душа вещей», изданная в начале века где-то в Рязани или другом провинциальном старинном русском городе. Автор утверждает, что вещи имеют душу, волю, привязанности, заставляющие их после многих скитаний по магазинам, перепродаж вернуться в семью их прежних хозяев. Он приводит множество примеров о том, как вещи возвращались… Имеют ли вещи душу – все-таки остается неясным, но ясно другое: душевное отношение хозяев к фамильным креслам, столам, бюро и т. д. Вещи связаны тысячами воспоминаний с их прежними владельцами, с теми, кто ими просто пользовался. Вещи учреждений не менее замечательны в этом отношении, чем вещи фамильные.
Но вещи можно любить и за их красоту, за то, что их делали мастера с любовью, тщательно, умно, с выдумкой, а иногда и улыбкой. «Улыбающиеся семейные предметы» – в них что-то бывает диккенсовское, из «Пиквикского клуба» (рассказ старого кресла).
Интересные сведения о красном дереве (mahogany) я прочел в одном английском издании. Оказывается, в XVII веке красное дерево ценили за его чудный запах. Об этом писал в 1672 году Richard Blome в книге «Description of Jamaica» («Описание Ямайки»). Описав разные сорта столярного дерева, он отметил, что в деревянных изделиях можно отметить «many other excellent sweet smellings» («много других превосходных сладостных запахов»). К «красному дереву» принадлежат многие породы деревьев. Вообще, надо сказать, запахи ценились два-три столетия назад больше, чем сейчас: запахи цветов, едва уловимые запахи обработанного дерева и пр. Петр I приказывал сажать в первую очередь душистые цветы, а по дорожкам, вместо того чтобы посыпать их гравием, сажать мяту, которая пахнет, когда по ней ходишь («мнешь» ее). Технические качества красного дерева (прочность, сопротивляемость переменам температуры, возможность делать «cabriole legs» 〈«витые ножки»〉, изогнутые ручки и пр.) первыми оценили испанцы. Они употребляли его в кораблестроении, а потом в своих домах и в церквах в американских владениях. В Европе красное дерево впервые стали употреблять англичане для маркетри. Ввозили дерево с Ямайки и из Гондураса. Лучшее дерево по крепости и фактуре добывали в горах. Первое по качеству дерево считалось с Ямайки, оттуда ввозилось дерево с начала и до середины XVIII века (точнее, до 1780 года), пока его запасы не уменьшились. В XVIII веке дерево ценилось в столярных работах за эстетические качества: во-первых, это дерево экзотическое, во-вторых, хорошо полируется, красива поверхность, цвет, слои (при использовании его для фанеровки), прекрасно годится для резьбы.
В русском военном флоте столяры часто делали мебель из массива. Красное дерево во флоте было относительно доступнее, и необходима была в первую очередь прочность. Нашей семье досталось бюро героя Севастопольской обороны адмирала Истомина. Оно стояло у него в каюте. Внизу – три ящика для белья. В средней части – выдвижной письменный столик с ящичками для письменных принадлежностей. Выше – буфет и книжный шкаф. Сверху была раньше решеточка, чтобы не съезжало во время качки или парусного крена что-то, что можно было класть на бюро сверху. Бюро имеет «модные» для пятидесятых годов формы (закругленные углы), но невероятно тяжелое, так как сделано на совесть и из массива. Разумеется, никакого «пламени», достигавшегося при фанеровке красным деревом, в нем нет.
А о «пламени»: самое красивое «пламя» все же в мебели из орехового дерева. Ореховое дерево мягкое, ломкое (а потому редкое), но извивы «второго рокайля» в нем удаются превосходно. Орех – мое любимое столярное дерево в мебели. Это не значит, конечно, что я его собираю или оно у меня есть. Я любуюсь им главным образом в санатории Академии наук в «Узком». Там есть удивительное псише, работы фабрики Гамбса в Петербурге, столы и кресла. Боюсь, что и там их век не долог.
Еще о красном дереве. Испанский флот потерпел поражение у мыса Трафальгар, несмотря на все технические преимущества своих судов. И первое преимущество состояло в том, что он был в основном построен из крепчайшего красного дерева, тогда как английские суда – из дуба, а мачты и реи из сосны. Испанцы пользовались огромными запасами красного дерева, росшего на побережье Кубы и нынешнего Гондураса. На испанских верфях Гаваны было построено в XVIII веке около 300 кораблей. На строительство каждого уходило около 3000 деревьев, и около 40 сосен (росших в Мексике) для трехмачтового судна – для рей и мачт.
Самым сильным и самым крупным военным кораблем в Трафальгарской битве был испанский корабль «Сантисима Тринидад» («Святая Троица»), имевший 144 пушки – больше, чем какой-либо другой корабль в битве. Двойные и тройные залпы англичан не смогли потопить судна – пробить его борта из красного дерева, тогда как пушки «Тринидада» пробивали с близкого расстояния дубовые борта английских кораблей толщиной в метр. Команда «Тринидада» имела 1200 матросов и солдат морской пехоты. Команда же флагманского судна адмирала Нельсона – «Ви́ктори» – всего 900 профессиональных моряков.
Почему же английский флот одержал победу над испанским? Главное – потому, что команды английских кораблей были дисциплинированнее и лучше профессионально обучены.
В Эдинбурге в 1967 году мне подарили замечательное воспроизведение картины Модильяни. Я спросил (а я старый типографщик): «На какой печатной машине оно сделано?» Мне ответили – на самой простой, XIX века. Но дело в том, что работали на этой машине настоящие мастера, очень тщательно и медленно,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
-
 Гость Елена12 июнь 19:12
Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗
Поклонник - Анна Джейн
Гость Елена12 июнь 19:12
Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗
Поклонник - Анна Джейн
-
 Гость24 май 20:12
Супер! Читайте, не пожалеете
Правила нежных предательств - Инга Максимовская
Гость24 май 20:12
Супер! Читайте, не пожалеете
Правила нежных предательств - Инга Максимовская
-
 Гость Наталья21 май 03:36
Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.
Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная
Гость Наталья21 май 03:36
Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.
Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная