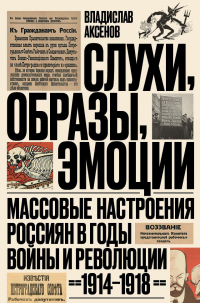Читать книгу - "Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918) - Владислав Аксенов"
Аннотация к книге "Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918) - Владислав Аксенов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Война вызвала издательский бум, росли тиражи периодических изданий. Один только иллюстрированный журнал «Огонек» насчитывал шесть миллионов читателей[1905]. В целях пропаганды, максимально широкого охвата социальных слоев, включая малограмотных, печать наполняла свои страницы рисунками и фотографиями, в том числе документальными. Это способствовало формированию различных традиций считывания визуального сообщения. Распространение в прессе фоторепортажа имело, как отметил К. Столарски, важное значение: «Фоторепортаж позволял зрителям интерпретировать увиденное в соответствии с их собственной социально-политической перспективой и жизненным опытом… включал культуру чтения в акт рассказывания новостей»[1906]. Исследователь отмечает хаотичность фотографических образов, обрушившихся на зрителя, что приводило к тому, что читатель с их помощью мог выстроить свой собственный нарратив о войне. Образ не всегда воздействовал на зрителя так, как задумывал фотограф или издатель. Например, акцентирование внимания в фотографиях на зверствах немцев вместо решимости к борьбе с Германией могло вызвать уныние и подорвать боевой дух солдат. Стремясь показать читателям войну с разных ее сторон, но, не имея возможности ввиду действовавших «Правил для русских и иностранных корреспондентов», некоторые фотографы прибегали к постановкам и даже инсценировкам тех или иных боевых операций. Так, например, на одной из почтовых фотооткрыток со спины были запечатлены немецкие разведчики, сидящие в укрытии с собаками. Принимая во внимание ракурс съемки и фокусное расстояние, фотограф должен был находиться от них на расстоянии не более нескольких метров. Другие кадры удивляли театральными позами героев и исключительно удачным освещением. Учитывая технические возможности фототехники, было ясно, что снимать динамичные сцены, да еще без вспышки, невозможно. Подобные казусы не ускользали от глаз внимательных зрителей, в результате чего в сатирической печати появлялись карикатуры на фотографов, которые в корыте разыгрывали морское сражение, или на «бравых солдат», позировавших фотографам на фоне задника с изображением жаркого боя. С другой стороны, часть населения, отличавшаяся меньшей критичностью мышления, вполне могла принимать такие постановки за чистую монету. Однако по мере развития фотографии наивных зрителей оставалось все меньше, тем более что технический прогресс добирался и до деревни.
Часто увлекающиеся фотографией горожане приезжали в села и фотографировали местных жителей. А. Замараев упоминает один из таких случаев, считая его показательным, важным и вошедшим в привычную картину сельской жизни[1907]. Доминирующим жанром в этом случае выступал постановочный семейный бытовой портрет. Семья выстраивалась на фоне избы, мужчины надевали рубашки, пиджаки, причесывались, женщины наряжались в выходные сарафаны и накидывали платки — важно было создать образ благополучной, зажиточной семьи. Полученную фотографию вешали на стену как знак, символ материального достатка. Вероятно, при помощи фотографии, сохранявшей образ прошлого, крестьяне надеялись сохранить сопутствующую им в то время удачу, благополучие. В связи с этим иконичность как подобие первообразу, документальность, уступала место созданию искусственного, индексального: значение похожести лиц снижалось по сравнению со значением сопутствующих им индексов богатства. Акт фотографирования становился символическим ритуалом закрепления за своей семьей благодати. В итоге висящая на стене фотография наделялась не меньшим символическим содержанием, в некотором роде мистицизмом, чем размещенные в красном углу избы иконы.
Функциональное значение портрета было связано с православной традицией иконопочитания (лобызание, молитва, каждение и пр.). В догмате отцов церкви об иконопочитании говорилось: «Честь, воздаваемая образу, переходит первообразному»[1908], — что предполагало возможность воздействия через изображение на изображенного. Правда, как отметил Л. Леви-Брюль, данная особенность восприятия графического или изваянного образа как единого целого с прообразом была вообще характерна для пралогического первобытного мышления[1909], следовательно, христианство лишь сохранило архаичные представления, которые в славянском язычестве были выражены идолопоклонством. В результате традиция, соответствовавшая как языческим, так и христианским обрядовым формам, прочно вошла в структуры крестьянского мышления. Это создавало известные функциональные практики: прославление или проклинание образа на портрете. В описаниях интерьеров парадных помещений крестьянских домов (горниц и «залов») часто среди настенных украшений упоминаются живописные картины, приобретенные в дни ярмарок, а также фотографии родственников, а также членов царской фамилии[1910]. Таким образом, в кризисные периоды образ царя на портрете мог превращаться в объект вымещения собственной злобы в форме мистического ритуала проклятия. Примеры подобного будут рассмотрены далее.
Развитие технических средств тиражирования визуальных образов на рубеже XIX — ХX вв. приводит к активизации новых форм репрезентации царской власти. Историки С. И. Григорьев, Б. И. Колоницкий, вслед за Р. Уортманом изучая сценарии репрезентации власти как своеобразной формы мифотворчества, рассмотрели изменения визуального образа монарха в разбираемый период на примере изобразительной продукции[1911]. Оказалось, что на протяжении XIX в. власть жестко контролировала посредством цензуры репрезентацию своего образа, на выпускавшихся ограниченным тиражом календарях, портретах преимущественно изображались цари прошлые, а не настоящие. Ситуация резко изменилась в период правления Николая II, стремившегося к «личной репрезентации своего индивидуального образа самодержца», чтобы «установить глубоко личную, даже интимную, верноподданническую связь между монархом и его подданными»[1912]. В результате в начале ХX в. происходило столкновение двух традиций визуальной репрезентации образа монарха: самодержавной и демократической. Первая была призвана подчеркнуть исключительный, сакральный характер власти императора путем подчеркивания его уникальности; вторая, наоборот, делала акцент на «народности» царя, его близости к простым подданным.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн