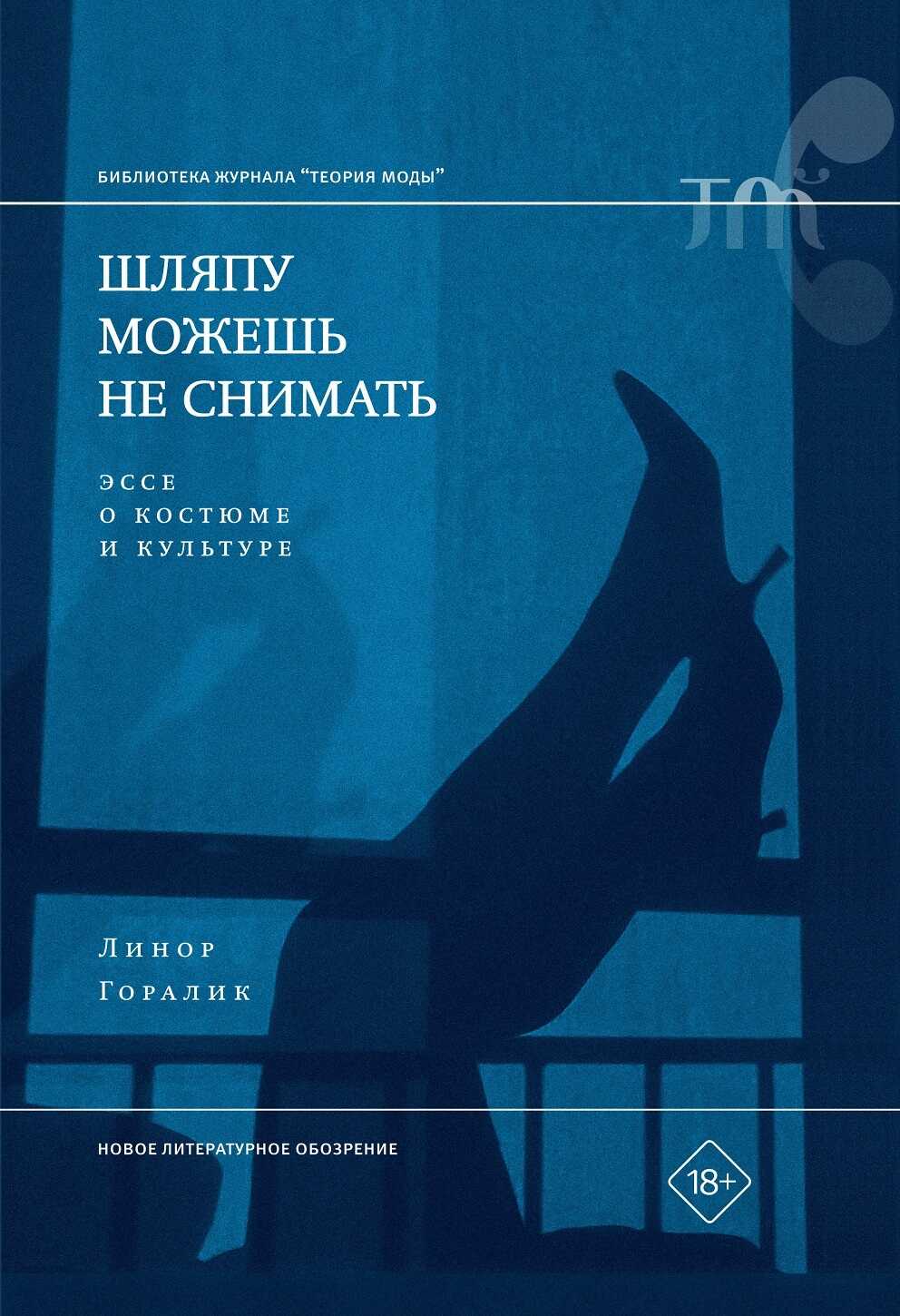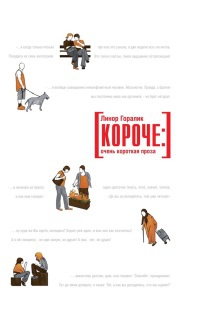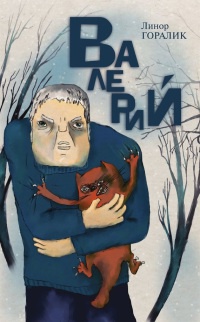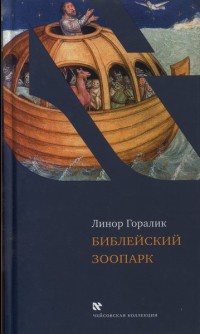Читать книгу - "Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик"
Аннотация к книге "Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИЕЙ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА), ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИИ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА).В книге Линор Горалик собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».
Декабрьский номер российского Vogue[1] отдал раздел «Вещь» под материал, озаглавленный «Советская»[2]. В нем коротко анонсировалась новая коллекция хорошо известного дизайнерского дуэта Nina Donis (Нина Неретина и Донис Пупис). «Дизайнерский дуэт Nina Donis посвятил осенне-зимнюю коллекцию самым ярким эпизодам своего детства – Новому году, праздничным украшениям и гордости всего Советского Союза: фигуристам», – сообщает редакционная врезка, сопровождаемая домашним портретом маленькой девочки под елкой, коллажем из фотографий с выступлений советских фигуристов, изображением алой конфетной коробки с надписью «Красный октябрь» и бантом из золотой тесьмы, ставшей одним из отличительных знаков коллекции. Не следует полагать, что платья самой коллекции (представленные тут же) хоть сколько-нибудь напоминают костюмы советских фигуристов, – если бы не рассказ авторов об источниках их вдохновения, провести аналогию вряд ли было бы возможно.
Описанный сюжет, все его детали – публикация в Vogue, конкретные элементы «советского», выбранные дизайнерами (далеко не впервые обращающимися к данной теме) в качестве источников вдохновения, намеренная безыскусность заголовка, присутствующее в изложении слово «детство», удаленность конечного продукта от заявленных «советских» прототипов – все это вкупе является превосходной иллюстрацией к тому, как, в каких формах и на каких правах и – наиболее интересный аспект – по каким причинам «советское» бытует в сегодняшней массовой эстетике, в визуальной реальности постсоветской России и в первую очередь в современном российском брендинге. Эта иллюстрация демонстрирует нам, какими узами связаны (или не связаны) в данном случае эстетика и идеология; она показывает нам наличие поколенческого фактора; она говорит об очень интересной селективности в восприятии эпохи и ее атрибутов; она демонстрирует, какой эфемерной может быть связь между «символами» и «символикой» (заметим, что в этой «советской» коллекции именно официальная советская символика совершенно не присутствует); наконец, она показывает нам, какое место эти атрибуты прошлого занимают в настоящем и каким образом работают механизмы их восприятия и переосмысления. Фактически эта иллюстрация – одна из сотен возможных иллюстраций такого рода – позволяет заинтересованному зрителю предположить, какие вопросы, очевидно, требуют постановки и попытки анализа, когда речь идет о «советской символике» сегодня.
Публикации последних пяти-шести лет, так или иначе рассматривающие вопрос присутствия так называемой «советской символики» на постсоветском пространстве, в большинстве своем либо склоняются к тому, что эффектом присутствия этой символики неминуемо будет возрождение просоветских настроений и стремление к новой диктатуре, либо – прямо противоположным образом – выражают ликование по поводу верности народа единственно правильным ленинским идеалам (оба полюса хорошо представлены, например, статьями Натальи Ивановой[3] и Игоря Кефели[4]). Обе стороны, безотносительно правоты или неправоты их предположений касательно будущего нации, демонстрируют редкое единодушие в вопросах семиотики: для них означаемое и означающее, символ и соотносимая с этим символом идеология связаны неразрывно и в высшей степени непосредственно. Поэтому большинство бесед и споров, касающихся вопроса об употреблении советской символики в рекламе, брендинге, методах продвижения товаров (в самых различных сферах – от высокой моды до повседневной гастрономии), подходит к феномену как к цельному явлению, интересуясь больше его воображаемыми или подлинными последствиями, чем его механизмами. Другой проблемой подобного рассмотрения вопроса о «советской символике» является отсутствие дифференциации не только в рассмотрении самого феномена, но и в рассмотрении демографических его аспектов: чаще всего речь идет о некоей неведомой силе, рисующей серпы и молоты на футболках, и некоторых же абстрактных людях, покупающих эти футболки по наивному неразумению связанной с этой символикой опасности. Между тем могла бы оказаться интересной попытка подойти к задаче с противоположной стороны и попытаться рассмотреть вопросы, связанные непосредственно с механизмами воздействия «советского» брендинга и с причинами, по которым этот брендинг оказывается популярным и эффективным (или, в ряде случаев, напротив, неэффективным). Возможно, такая попытка заодно косвенно способствовала бы и поискам ответа на вопрос о влиянии «возрождения советской символики» на настоящее и будущее общественного сознания в стране, раз уж эти вопросы видятся нам тесно связанными.
«В России лучше нет пока Росагроэкспорта сырка»: структура «советского ретро»
Если полагать «советской символикой» все, что так или иначе напоминает о Советском Союзе и о существовании в период оного, то к «советской символике» необходимо будет отнести и вытянутые на коленях треники, и обледеневшие каникулярные очереди к Мавзолею. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что символы, приемы, манера речи, цитаты и интонации, используемые в сегодняшней России для продвижения брендов путем создания «советского колорита», представляют собой вполне небольшое и, при желании, довольно хорошо очерчиваемое множество. Это множество, равно как и стиль, создаваемый из его элементов, было бы, по всей видимости, вполне уместно назвать «советским ретро».
Слово «ретро» априорно означает некоторую временну́ю и смысловую дистанцированность от предмета, символическую подмену, смысловую игру по строго определенным правилам, в основе которых лежит принцип специфической селекции символов и фактов.
Эта селекция подразумевает в первую очередь позитивизацию символов, уплощение их смыслов и, таким образом, уплощение понимания самой эпохи, к которой эти символы относятся: так китчевый культ Наполеона в сегодняшней Франции мало соотносится с подлинными настроениями, царившими среди французов в период непосредственной деятельности их многоликого соотечественника.
Вторым принципом селекции в ходе превращения исторической эпохи в собственное «ретро» является интуитивный, но при этом поразительно аккуратный отсев «лишних» символов и присвоение символов нужных: статья в туристическом журнале, посвященная Вене и озаглавленная «Кайзер, Моцарт, штрудель!»[5], иллюстрирует этот принцип с восхитительной ясностью (положим, штрудель можно считать не совсем «ретро»; но, говорят, и он уже не тот…).
Эти два механизма «ретроизации» – механизм упрощения и механизм селекции символов (о третьем механизме речь пойдет позже) – выполняют очень важную социальную работу: они делают сложнейшую, неоднозначную, спорную материю подлинной исторической эпохи доступной широкому восприятию. Не пониманию, не осмыслению, но именно восприятию – пусть неполному и искаженному, но такому, которым человек, далекий от исторической науки, может оперировать, когда речь заходит о рассматриваемой эпохе; такому восприятию, которое позволяет ему самому строить в случае необходимости некоторые предположения об этой эпохе. «Ретро» – не изложение подлинной истории и даже не ее упрощенный курс, это принципиально иная материя: история, прошедшая сквозь машину кэмпа, чтобы стать доступной для массового восприятия, не готового оперировать комплексными системами. «Ретро» необходимо потому, что массовое сознание, подобно сознанию пятилетнего ребенка (то есть инфантильное, видимо, по своей сути), требует однозначности и простоты в представлениях о прошлом, – в противном случае прошлое вызывает тревогу, беспокойство, стресс, в крайних случаях – «общественный невроз» и «общественную панику». «Ретро» – механизм, позволяющий делать прошлое доступным восприятию, создавать
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут