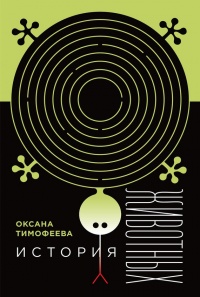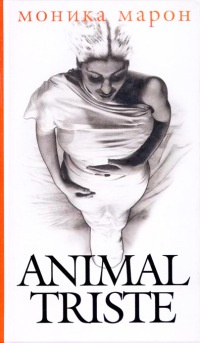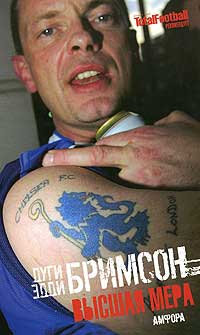Читать книгу - "История животных - Оксана Тимофеева"
Аннотация к книге "История животных - Оксана Тимофеева", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Попросту говоря, жертвенное животное всегда замещает человека; они умирают «за нас». Жертвоприношение – это хитрость: умрет другой; смерть, которую мы преодолеваем, не совсем «наша», но та, свидетелями которой мы являемся (это также ключевой момент батаевской дискуссии по поводу диалектики раба и господина, в которой обе стороны симулируют). Можно, однако, сказать и наоборот – что смерть, свидетелями которой мы являемся, на самом деле «наша», так как она принадлежит нам как схваченная, ставшая фактом сознания. Как поясняет Ипполит, «животное не осознает бесконечной тотальности жизни в ее целом, тогда как человек становится для-себя этой тотальности и интернализирует смерть. Вот почему основополагающий опыт человеческого самосознания неотделим от фундаментального опыта смерти»[165].
Фундаментальный опыт интернализированной смерти – это та территория, на которой психоанализ встречается с жертвоприношением, парадоксальная территория памяти о забытом, населенная животными. Но это не гегелевская территория. Это неясное место пересечения отсутствует у Гегеля, потому что в его системе нет бессознательного – по крайней мере в том смысле, в котором оно есть в учении Фрейда. То, что осталось позади (грубо говоря, животность), не вытеснено, не подавлено, а «снято»; оно сохраняется в снятом виде, но никогда не возвращается. Однако, как не устают подчеркивать Жижек и Долар, есть нечто, что делает Гегеля очень близким Фрейду и Лакану. В частности, можно указать в этой связи на тезис о способности человеческого сознания создавать из себя субъективное единство: еще до сознания, на органическом уровне, это единство расколото. Жизнь – это раскол, и как раз из этого раскола, из несовпадения с собой, из болезненности животного как органического существа появляется субъект. Ипполит отмечает:
Однако даже на уровне животного есть момент, предвещающий сознание, – а именно болезнь. В болезни организм внутренне разделен с самим собой. Жизнь, которая обретается в частном существе, находится в конфликте с жизнью вообще. Этот конфликт между моментом частности по отношению ко всеобщему конституирует в больном организме позитивность и судьбу истории. Гегель исследовал этот раскол в человеке и человеческой истории в своих ранних работах. Видя в органической болезни прообраз сознания, которое всегда внутренне разделено в себе и есть несчастное сознание в той мере, в какой это сознание «позитивности жизни как несчастья жизни», Гегель изменяет смысл этого сравнения. Человеческое самосознание способно восторжествовать там, где организм терпит неудачу[166].
Болезнь характеризует изначальную уязвимость живого существа. Коротко говоря, как это уже было отмечено в связи с критикой Эндрю Бенджамина, недостаток гегелевских животных, который должен быть преодолен в людях, заключается в их неспособности свободно создавать самих себя в качестве внутреннего единства, чтобы противостоять, сопротивляться внешней действительности. Природное бытие животного, предоставленное случайности окружающей среды и опасностям жизни с ее постоянным насилием, подводит его к состоянию беспрестанной «смены здоровья и болезни» и делает его «неуверенным, робким и несчастным»[167]. Бенджамин тщательно анализирует этот момент:
Невозможность самоконституирования у животного – позиционирование, которое локализует животную сингулярность и определяет ее как постоянно «больную», – можно объяснить множеством разных способов. Самое значительное в этом контексте – объяснение в терминах гегелевского различения между «инстинктом» (Instinkt) и «влечением» (Trieb), с одной стороны, и волей, с другой. Воля – это то, что позволяет «Человеку» возвыситься над инстинктами и влечениями. Более того, воля позволяет «Человеку» считаться совершенно «неопределенным», тогда как животное всегда определено[168].
Что у гегелевских животных определенно отсутствует, так это названная неопределенность, или свобода воли, которая, в конце концов, позволяет человеку не только ходить прямо, но и распоряжаться своей животной жизнью, символически опосредуя или отрицая ее. Зверь же все еще привязан к окружающей среде, а также к человеку и зависим от внешних условий своего естественного существования. Вдобавок ко всему, как это всегда случается, незаметно подкравшаяся антропологическая машина отбрасывает в болезненную непосредственность животного мира еще и некоторые категории людей: «Человек в большей степени образует свою самость в самом себе, но все-таки южный человек тоже не в состоянии объективно сохранить свою самость, свою свободу»[169]. Возникает, однако, следующий вопрос: если животные и «южные люди» недостаточно свободны и поэтому уязвимы перед опасностью и насилием, то насколько сами мы, человеческие существа, свободны?
Этот вопрос выходит за рамки метафизики трансцендентности с характерной для нее логикой жертвоприношения и подводит нас к проблематике современной биополитики. Здесь следует вспомнить агамбеновскую критику понятия жертвоприношения у Батая, а также идею Жан-Люка Нанси о существовании, не приносимом в жертву[170]. По мысли Агамбена, сакральный статус человеческой жизни и вообще жизни, уже утратил всякую релевантность, и любая жизнь теперь выставлена напоказ и отдана на произвол самому неограниченному насилию:
В современности принцип сакральности жизни таким образом полностью освободился от идеологии жертвоприношения, и в нашей культуре значение слова «сакральный» продолжает семантическую историю homo sacer, а не жертвоприношения (и поэтому демистификации идеологии жертвоприношения, распространенные сегодня, недостаточны, даже если они верны). Сегодня мы имеем дело с жизнью, которая как таковая уязвима перед беспрецедентным насилием именно в самом профанном и банальном смысле[171].
Но не становится ли в таком случае каждый своего рода «неуверенным» гегелевским животным? Агамбен не столько думает, что человек «утратил» свой трансцендентный сакральный статус, сколько смещает регистры и прилагает другого рода оптику, некую историческую генеалогию, которая фиксирует неизменные метафизического порядка через изменения в порядке юридическом. И если, следуя агамбеновской логике, анимализация человека это не просто побочный эффект, но необходимый результат работы антропологической машины, то можно было бы легко перейти от этого к идее, что любое метафизическое утверждение о человеческом превосходстве над животным в конце концов обязательно приведет нас к этому жалкому состоянию.
Однако – возвращаясь к Гегелю и принимая во внимание его тезис о субъективности любого живого организма безотносительно его антропогенетических возможностей, – парадоксальным образом именно это «неуверенное», уязвимое положение животных («южных людей», «евреев» и т. д.) перед насилием как со стороны природы, так и со стороны людей образует зазор, в котором у них неожиданно появляется некий «шанс». Сама их жизнь, сущностно расколотая в своей болезненности и несчастье, содержит в себе силу негативности, выражающую себя в том, что Гегель в «Науке логики» называет «беспокойством»[172]: «беспокойство – присущее (всякому) нечто и состоящее в том, что в своей границе, в которой оно имманентно, нечто есть противоречие, заставляющее его выходить за свои пределы»[173].
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн