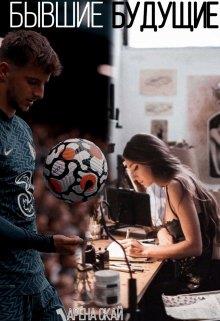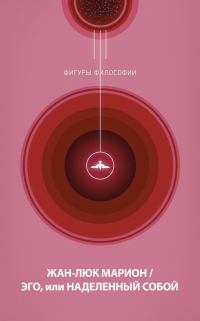Читать книгу - "Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна - Жорж Корм"
Аннотация к книге "Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна - Жорж Корм", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
С конца XIX века мы привыкли считать, что мир, по крайней мере то, что обычно называют «цивилизованным миром», то есть Европу, сложены из «наций». Эти нации, республиканские или монархические, в своём построении опирались на то, что можно было считать естественными факторами – на географические или лингвистические границы, ареалы проживания населения с предположительно одними корнями, на непрерывность системы власти и, соответственно, желание жить вместе.
В те светские времена религию, в общем, не считали определяющим элементом нации. Травмы, оставшиеся от крайне болезненных и кровопролитных европейских религиозных войн, в конце концов привели к терпимости в религиозной сфере[72]; в свою очередь эта терпимость, позволяющая католикам, протестантам и иудеям жить вместе в качестве граждан одной и той же нации, привела к маргинализации религии и религиозной идентичности как факторов, определяющих конституцию нации. Как мы видели, Луи де Бональд станет маяком для католического антиреспубликанского консерватизма, ненавидящего философов, провозглашающих «атеизм для знати и республиканизм для народов», то есть философию, которая ставит «разум на место религии», а «закон на место власти»[73]. Конечно, «традиционные» силы сохранялись, особенно во Франции, где они оплакивали вытеснение религии на обочину жизни нации. Франция, старшая дочь Церкви, была особенно дорога сердцу некоторых католиков, которые видели в современных идеях результат разрушительной работы протестантов, иудеев и франкмасонов. К этим традиционным или, скорее, традиционалистским силам мы вернемся позже, ведь их карьера, не завершившись в XIX веке, в конце XX и начале XXI века вступит в фазу изменений и морфологических преобразований, из которых мы никак не можем выйти.
Однако в конце XIX века и в начале XX в Европе, несомненно, главной составляющей идентичности является совсем не религия, а нация, отныне рассматриваемая в качестве естественного, подлинного и объективного феномена. Каждый теперь – француз, итальянец, немец, англичанин или испанец. У многих историков мы находим талантливое описание того, как нации и европейские национализмы фабриковались, как вводились в строй большие национальные мифологии, как деревенские территории представлялись в качестве элемента фольклора, как выстраивались новые воспоминания[74]. Идентичность в таком виде настолько придется европейцам по вкусу, что дважды за XX век их нации развяжут убийственную войну, театром которой будет не только Европа, но и колонии, которыми она обзаводилась, начиная с XVII века. Другие страны также будут втянуты в две этих войны: США и Османская империя в войну 1914–1918 года, а Япония – в войну 1940–1945 гг.
Можно заметить, что в историческом контексте XIX века слово «нация» стало использоваться в новом значении, сформировавшемся в период Французской революции, которая связала понятие нации со священной мистикой суверенитета, которым ранее в соответствии с принципами божественного права удостаивался лишь монарх: теперь же несуверенная нация – это нация угнетенная, неполная, лишенная свободы и человеческого достоинства. Само слово «нация» не было для европейской культуры новым. Оно происходит от латинского корня, означавшего «рождаться в определенном месте и определенной среде». То есть до Французской революции оно означало провинцию, из которой происходил данный человек (как бретонец, провансалец, бургундец и т. п.), а название провинции отсылало к определенной этнической характеристике (которой часто выступал местный говор), к патрониму старинного племени, когда-то захватившего провинцию, или же к древним феодальным семьям, добившимся господства над этой провинцией.
Парадокс, который можно здесь выделить, состоит в том, что современное употребление слова «нация» – как суверенного народа, хозяина своей судьбы, – сохраняет ту силу мистики, принудительной и безусловной морали, которую обычно приписывают вере и религиозной идентичности. Тогда как по своему происхождению слово было гораздо более нейтральным. Нация в смысле «провинции», конечно, предполагала гордость за те или иные качества своей земли, включая и ее религиозную специфику; но она не была всеобщим и исключительным критерием идентичности, каковым станут нации XX века. Тогда как XIX век в Европе характеризовался тем, что историки назвали «движением национальностей»: революции 1830 и 1848 гг. стали «весной народов»; объединение Германии и Италии открыло путь «пробуждению национальностей» во всей остальной Европе, а также на ее периферии[75]. В то же самое время квази-мистическая концепция суверенного «тела» нации почти везде порождает «проблему меньшинств»: те, кто не говорят на том же языке и не практикуют ту же религию, что и остальная нация, превращаются в некое инородное «тело», «меньшинство», вызывающее подозрения[76].
Как же произошел в Европе этот переход от провинциального смысла латинского слова к суверенной нации, романтически воплощающей в себе дух «народа», описанный в XIX веке немецкими философами и историками, а затем и французскими – в особенности Мишле? Понятие народа в процессе исторического развития приобретало различные значения, эволюцию которых стоит обрисовать хотя бы в самых общих чертах.
Два тысячелетия монотеизма, по сравнению с которыми два последних века светской культуры – сущий пустяк, столь сильно повлияли на нас, что мы склонны забывать о том, что идентичность человеческих групп структурировалась культом предков. Организация идентичности и сопровождающей ее системы власти выражается в племенной солидарности и родстве или же в сосуществовании нескольких расширенных оседлых семей, живущих в рамках одного города («агнатическая семья»). Первичной матрицей идентичности является, соответственно, не столько религия – достаточно сложно выстроенный в интеллектуальном отношении феномен – сколько общее происхождение от одного предка. С течением времени, когда потомство становится все значительнее, сам предок окружается ореолом все более славных деяний, которые, в конечном счёте, приобретают мифический характер. В то же время, вполне логично, что эта связь, объединяющая нас с нашими родителями, а потом, по цепочке, и с нашими древними предками, оказывается первичной матрицей идентичности. В самых разных частях человечества культ предков в его различных формах издавна выступал единственным критерием идентичности[77]. Эта система идентичности служила опорой для авторитета старейшин, главы племени или собрания стариков и вождей: эти формы власти появлялись по мере того, как образовывались все более крупные союзы, как кочевые, так и оседлые. Именно на основе культа предков развились те религии, которые мы обычно называем «языческими», религии, множественность богов которых отражает множественность предков.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут