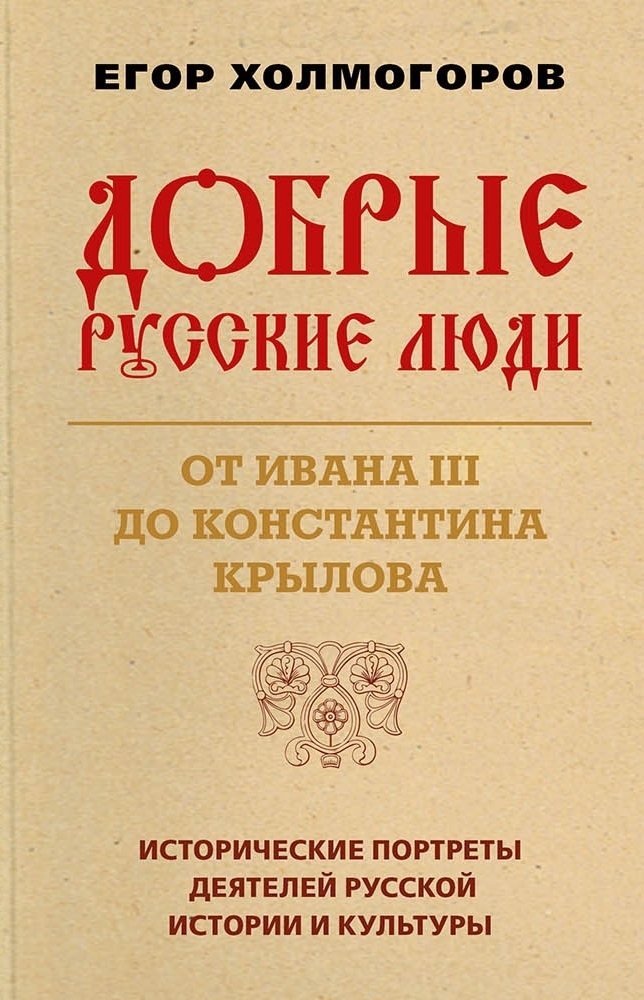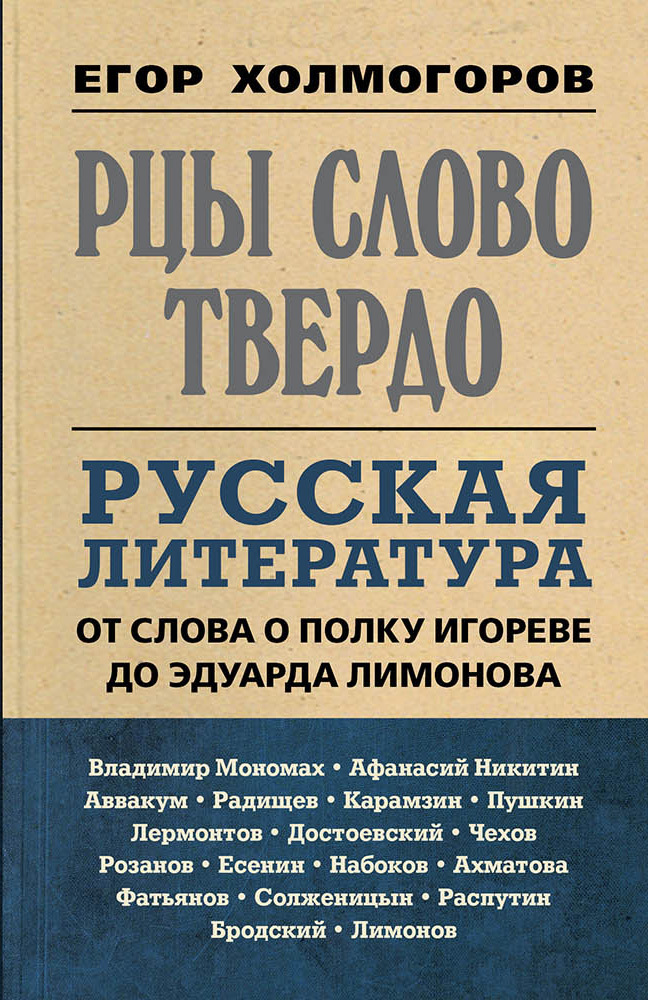Читать книгу - "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры - Егор Станиславович Холмогоров"
Аннотация к книге "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры - Егор Станиславович Холмогоров", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Перед читателем исторические портреты деятелей русской истории и культуры — монархов и полководцев, землепроходцев и философов, писателей и композиторов, поэтов и художников, на протяжении веков бескорыстно строивших великую российскую державу. Их жизнеописания освобождены от идеологических пут классового подхода и наглядно иллюстрируют роль личности в истории в целом и в становлении России в частности. Объединяет эти очерки стремление автора рассказать о русских героях, увидеть смысл и значение их деятельности для нас, сегодняшних русских. Герои этой книги: государь Всея Руси Иван III, царь Иван Грозный, Семён Дежнев, адмирал Ушаков, фельдмаршал Кутузов, генерал Котляревский, император Николай I, Константин Аксаков, граф Михаил Муравьёв-Виленский, Михаил Катков, Фёдор Достоевский, Константин Леонтьев, Константин Победоносцев, император Александр III, Виктор Несмелов, Пётр Столыпин, император Николай II, генерал Дроздовский, адмирал Колчак, Николай Гумилёв, Александр Шаргей, протоиерей Георгий Флоровский, адмирал Горшков, Георгий Свиридов, Илья Глазунов, Игорь Шафаревич, Павел Рыженко, Константин Крылов. Книга адресована широкому кругу читателей.
Те, кто общался с Константином Петровичем лично, находили его интереснейшим, энциклопедически образованным собеседником, отмечали доброту, милосердие, отзывчивость. Он был крупным благотворителем, тратившим десятки тысяч рублей на помощь ближним, помогал и протекцией и деньгами Достоевскому, Васнецовым, Чайковскому.
Однако знавшим Константина Петровича трудно было удержаться и от упреков. Почти единодушный приговор мемуаристов — творческое бесплодие, преобладание критики над созиданием. Этим он разочаровал единомышленников консерваторов и, если верить мемуарам графа С. Витте, даже самого Александра III, якобы сказавшего о своём былом учителе: «одною критикою жить нельзя, а надо идти вперёд, надо создавать».
К. Победоносцева часто называют «идеологом дворянских контрреформ», но это недоразумение — документы фиксируют, что, к удивлению союзников-консерваторов, таких как М. Н. Катков, он сопротивлялся реакционным начинаниям не менее яростно (хотя менее успешно), чем радикальным. Попытка усмирить крестьян с помощью дворянства представлялась ему нарушением надсословного характера русского самодержавия. Обер-прокурор был не согласен «с мыслью посредством дворян обуздать народ, забыв, что дворяне одинаково со всем народом подлежат обузданию».
Он вообще не верил ни в какую перемену государственных учреждений, новые законы казались ему пересаживанием музыкантов в крыловском «квартете»: «Зачем строить новое учреждение, когда старое учреждение потому только бессильно, что люди не делают в нём своего дела как следует».
Победоносцеву представлялись страшным грехом любые преобразования, не только либеральными. Любое проектирование будущего он считал головными беспочвенными мечтаниями, противоречащими жизни. Слово «жизнь» одно из самых частых в его лексиконе. Однако вот парадокс — это понятие трактуется им не как движение, активность, борьба, что более привычно для нашей эпохи, а напротив — как не возмущаемое страстями струение бытия. «Да тихое безмолвное житие поживем».
Любой «проект» представлялся ему искусительной «мечтой» (любимое отрицательное определение, попавшее даже в речь Николая II и вызвавшее скандал — «бессмысленные мечтания»), угрожающей спокойствию жизни; любая борьба идей и программ — чванливой суетой, в которой не может быть правого и виноватого, где всё «оболживело» (ещё одно любимое слово); любые деятельные, знаменитые, амбициозные люди — угрозой тем тихим смиренным провинциальным труженикам, которых он воображал опору истинной общественной пользы.
Консерваторы, защитники начал народности и традиции, пользовались у Победоносцева не большей, а порой и меньшей поддержкой, чем их оппоненты, особенно если те были активны, настойчивы и стремились к общественной самоорганизации. «Общественное мнение повсюду, тем более у нас в России, я считаю обманчивой мечтой и вижу на опыте целой жизни, как при помощи его не разъясняется, а извращается истина».
Любая напряженная борьба, включая борьбу за Истину, встречала его глухое противодействие. «Если бы в те времена спросили тебя: созывать ли вселенские соборы, которые мы признаем теперь святыми, ты представил бы столько основательных критических резонов против их созыва, что они бы, пожалуй, не состоялись» — иронизировал над Константином Петровичем славянофил Иван Аксаков.
Собственная «идея» Победоносцева не случайно характеризуется исследователями как своего рода «консервативное народничество». Победоносцев был противником не только либералов и революционеров, но и петербургской бюрократии. Самодержавная монархия рисовалась ему опирающейся на простого человека, как неформальная сеть скромных тружеников, которых царские доверенные советники найдут в глубинке. Его соратником и идеалом был Сергей Александрович Рачинский, оставивший профессорство в Москве и открывший сельскую школу у себя в Смоленской губернии (именно эту школу прославила знаменитая картина «Устный счёт» Н. Богданова-Бельского). Эти чаемые работники, как представлял Константин Петрович, будут улучшать жизнь, трудясь «в тишине, по углам», «в своём тесном кругу», «в бедности, простоте и смирении».
«Простота» — ещё одно любимое слово этого консервативного мыслителя. «Что просто — то право». Как только простое интуитивное чувство отягощается рефлексией, становится частью самосознания человеческого «я», оно уже кажется К. Победоносцеву отравленным. Поразительно, что будучи непримиримым оппонентом Л. Толстого в вопросах религии и общественных идей, К. Победоносцев удивительно близок с ним в философии. И тот и другой стремятся к опрощению, ставят идеалом русского человека: кого-то вроде Платона Каратаева.
Настоящей опорой Руси и самодержавного порядка представлялся К. Победоносцеву простой народ, который в своей темноте и непросвещенности хранит веру Церкви и верность Государю. Народ постигает истину интуитивно, практически без посредства учения Церкви — мысль, балансирующая на грани ереси.
«Какое таинство религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви и исполняет требы. В иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной… И, однако, во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, неизвестно кем, алтарь неведомому Богу».
Восторг Победоносцева вызывает инерция неученой жизни.
«Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, и сила эта столь необходима, что без неё поступательное движение вперёд становится невозможно».
В центре жизни стоит народный предрассудок, когда простой человек «держится упорно и безотчетно мнений, непосредственно принятых и удовлетворяющих инстинктам и потребностям природы», а покушения логики воспринимает как угрозу не одному конкретному мнению, а «целому миру своего духовного представления».
В этом понимании предрассудка К. Победоносцев отрывается от основного направления консервативной мысли, идущего от Эдмунда Бёрка и Н. Карамзина, в котором предрассудок — это добродетель, вошедшая в привычку, это продукт коллективного ума, «общий фонд, хранящий веками приобретенную мудрость нации». Человек с предрассудками у Бёрка — это ходячий концентрат национальной истории.
В победоносцевском же варианте он оказывается ближе к bon sauvage — доброму дикарю Руссо и прочих просвещенцев, который в своей простоте и чистоте интуитивно «от природы» знает истину, а любая цивилизация и образование, любой исторический опыт, ему лишь вредят. Разница в том, что для просвещенцев религия затемняла простоту, а для Победоносцева именно она была центром всего.
Это связано с ориентацией Победоносцева не на английскую, а на французскую традицию консервативной мысли, идущую от Жозефа де Мэстра и особенно любимого Константином Петровичем консервативного социолога Фредерика Ле Пле — Победоносцев перевел и издал его труд «Основная конституция человеческого рода». Для французского консерватизма, в противоположность английскому историоцентризму, характерен натуроцентризм, уверенность в том, что существует естественный порядок вещей, данный Богом и природой, и консервативная миссия состоит в том, чтобы этот порядок не нарушать и не разрушать. Поскольку для любого социолога в XIX веке
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут