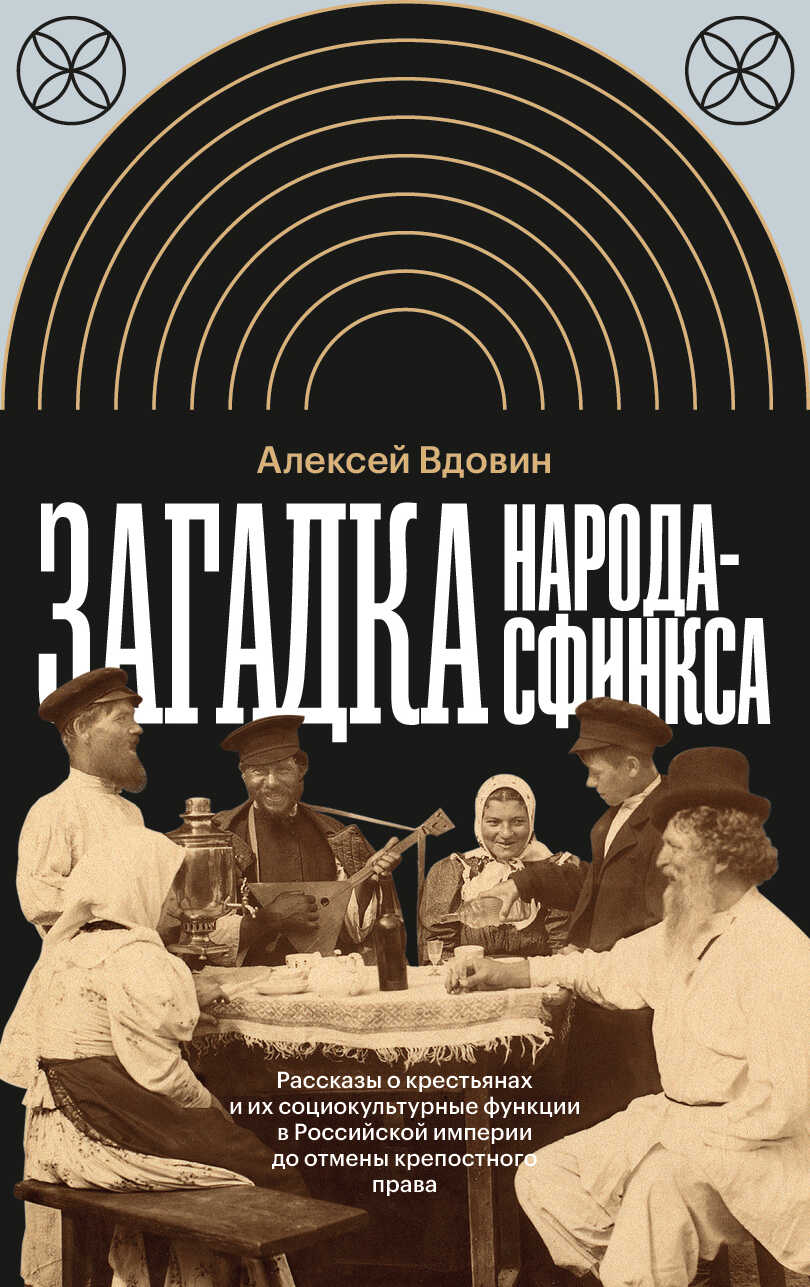Читать книгу - "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин"
Аннотация к книге "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Жанр «рассказов из крестьянского быта», дань которому отдали в том числе и многие классики (Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, Марко Вовчок, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин), зародился в 1770‐е годы и, пройдя полувековой путь, достиг апогея в середине XIX века. Принято считать, что этот жанр гуманизировал изображение крестьян как полноценных личностей с особым внутренним миром, эмоционально равноценным дворянскому. Но так ли это? Как показывает книга Алексея Вдовина, процесс гуманизации и субъективизации крестьян в прозе был весьма противоречивым и привел скорее к признанию их инаковости. В своей работе автор прослеживает эволюцию жанра от идиллии и сентиментальной пасторали 1790‐х годов к историям о помещичьем и государственном насилии над крестьянами, помещая его в широкий социокультурный и политический контекст. Внимание исследователя сфокусировано на социальных функциях прозы о крестьянах, под влиянием которой образованная элита империи конструировала свои представления об «идеальном Другом» и русской нации как таковой. Алексей Вдовин – историк литературы, доцент Школы филологических наук НИУ ВШЭ.
Критики восторженно встретили рассказ Писемского и особо хвалили его русские типажи – эту «чисто русскую натуру, широкую, здоровую, хотя еще и не развитую, не сдержанную просвещением»:
И как верны мужики Писемского! Это настоящие коренные русские люди, не приглаженные, не подкрашенные <…> не идеализированные на французский манер, не Катоны в армяках и не Франсуа Шампи в розовых рубашках714.
В этом отзыве отчетливо слышен отказ от любых параллелей и проекций русской истории и русской литературы на какие-либо европейские прецеденты, будь то античные или французские («Франсуа-найденыш» Жорж Санд), что отличает ситуацию 1855 г. от 1812-го, когда в публицистике и карикатурах эксплуатировалась античная топика (Сцевола и другие герои). Слепой и категоричный отказ считать русскую литературу частью мировой и европейской указывает здесь на явный признак формирующегося национализма – ощущение уникальности и аутентичности715.
На этом обзор националистического дискурса русской литературы эпохи Крымской войны можно было бы закончить, однако важно добавить к фигурам Потехина, Горбунова и Писемского еще двух известных писателей – Тургенева и Григоровича, которые не были вовлечены в описанную выше патрон-клиентскую сеть. Тем не менее во время войны выходили их повести о крестьянах («Муму» и «Пахарь»), которые также могут быть прочитаны в предложенном здесь ключе.
«Муму», написанная в 1852 г., была опубликована лишь в 1854‐м, и исследователям не приходило в голову, что в контексте национализации патриотизма спонтанное решение Герасима убить собаку и его манифестированная в тексте «русскость» (красная рубаха, противопоставленная нарратором «немецким платьям» дворни) далеко не случайны. Как убедительно показала Е. Фомина, немотивированное в тексте убийство Герасимом собачки было преднамеренным и концептуальным решением Тургенева, его попыткой указать на иррациональность и непостижимость характера русского простолюдина716. Герасим убивает Муму, конечно же, не из‐за страха перед барыней, а в результате стихийного порыва не продавать ее на Крымском рынке, как он решил поначалу, но утопить рядом с Крымским бродом (выбор места в контексте войны, конечно, становится знаковым). Внезапная перемена замысла должна была создать необъяснимую загадку рокового поступка героя, и вся дальнейшая рецепция «Муму» полностью это подтверждает.
На излете войны увидела свет и повесть Григоровича «Пахарь» (1856). В письме к Н. А. Некрасову автор прямо проводил параллель между ее содержанием и политическим контекстом: «…принимая в соображение теперешнее время и всеобщее настроение умов, – думаю, что основная мысль повести многим должна прийти по сердцу <…>. Я первый раз в жизни высказываю некоторые из задушевных моих убеждений»717.
Критика безошибочно опознала в «Пахаре» черты идиллии718, а в самом тексте Григорович позаботился об указании, в каких категориях лучше всего воспринимать его произведение. Очевидно, следуя за оппозицией Шиллера, писатель противопоставляет «наивному» сельскому быту «сентиментальный» взгляд образованного горожанина, которой создает в воображении идиллические картины крестьянской жизни:
Виновата ли эта действительность, если праздность, городская скука и неведение сельского быта внушают нам мечтания о каком-то небывалом, часто совершенно идиллическом мире?.. Настроенные таким образом, мы, конечно, не находим в деревне того, чего искали719.
Основательное знакомство с реальным деревенским бытом крестьян, по мысли Григоровича, позволяет спуститься с небес на землю, а в жанровых терминах – перейти от идиллии к «поэзии действительности»:
Когда откроется перед вами картина широкого простора и на ней живой пример тяжкого труда и простой, первобытной жизни, все ваши идиллии, плод праздной фантазии, покажутся вам мелкими до ничтожества! Присмотритесь, и вы увидите, что поэзия действительности несравненно выше той, которую может создать самое пылкое воображение!..720
Пафос субъективно-авторского повествования «Пахаря» заключается в апологии сельской трудовой жизни на лоне природы. Сюжетом повести становится возвращение рассказчика из шумной и неприятной Москвы в свой опустелый фамильный дом на Оке и наблюдение за смертью старого, под 80 лет, пахаря Ивана Анисимыча, с детства знакомого автору. Описание этого путешествия отличает существенная доза националистических сентиментов, нехарактерная для русского пейзажа до «Мертвых душ» Гоголя721. Поскольку к середине 1840‐х гг. в литературе и травелогах формируется топика и язык описания именно русского пейзажа, Григорович подает проселок Московской губернии как пасторальный и типично русский, вмещающий в себя все национальные атрибуты – русское поле, простор, речь, песню:
Посмотрите-ка, посмотрите, какою частою, мелкою сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?.. Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте – они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведанного сердца.
На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, с тем необъятно-манящим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!..722
Пейзажи поблизости от родного имения описываются через топос «царствующей над полями» «тишины», который через год Некрасов задействует в поэме «Тишина». Этому умиротворяющему природному состоянию противостоит никак не названная, но, можно думать, подразумеваемая по контексту война на рубежах России, глубинные сельские местности которой пока хранят покой.
Метафорика тишины распространяется в повести и на образ главного героя – умирающего пахаря Анисимыча, которого в самом начале посевной хватил удар, лишив речи. Все три последних дня герой хранит молчание, и только рассказчик, знающий биографию старика, доносит до нас его речь и жизненную философию. Она поразительно созвучна авторской: Анисимыч оказывается едва ли не одним из последних носителей идеи земледелия и ручного труда в противовес фабричному производству. Точнее говоря, Анисимыч выступал не столько против фабрик как таковых, сколько против фабричного образа жизни, который развращает крестьян, разъединяя
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн