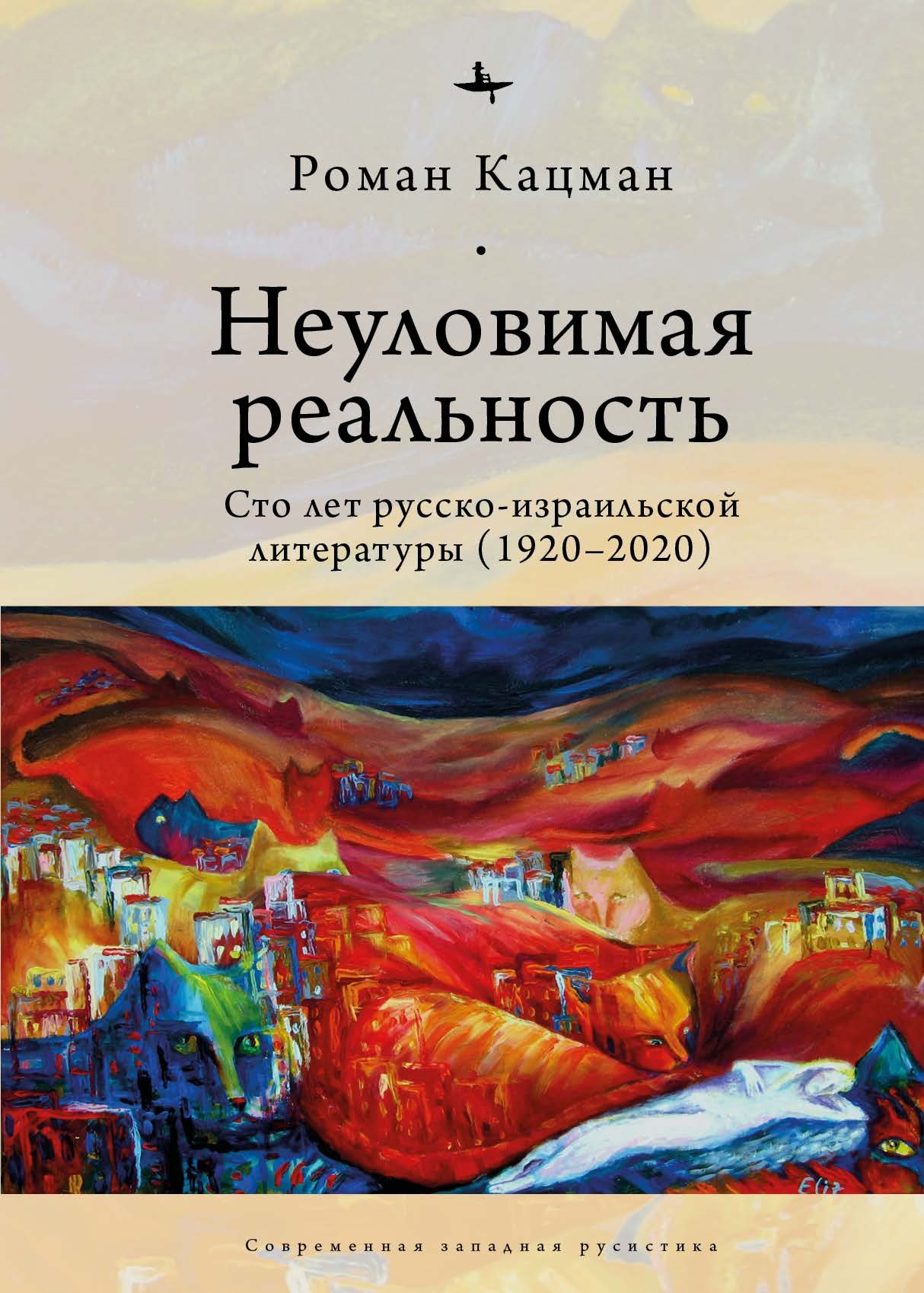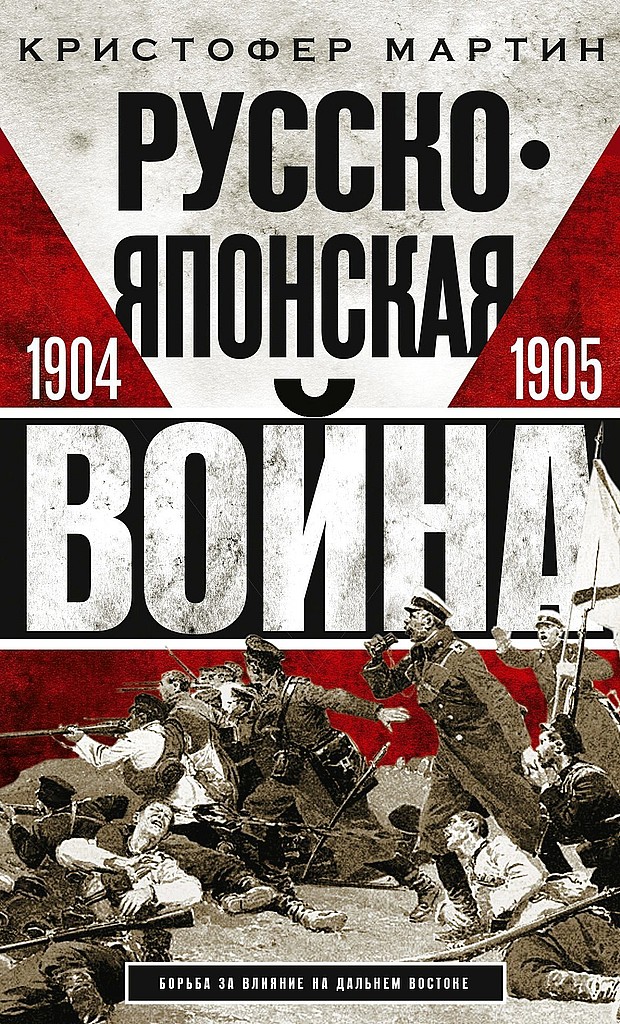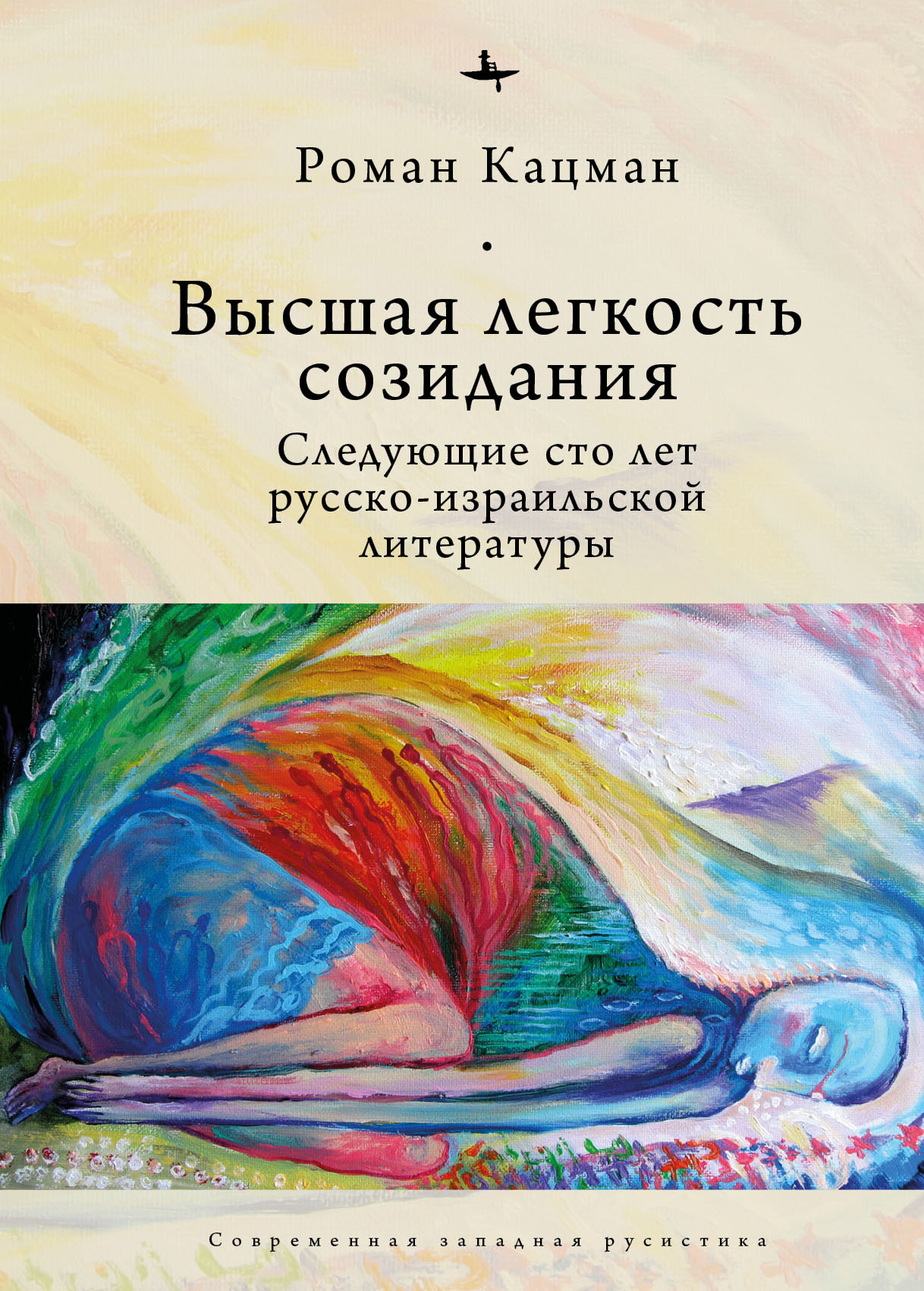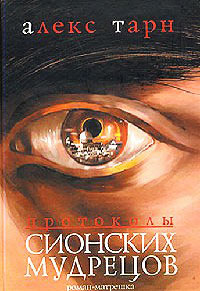Читать книгу - "Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020) - Роман Кацман"
Аннотация к книге "Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020) - Роман Кацман", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В книге рассматривается одна из особенностей русско-израильской литературы последних ста лет: поиск ответа на главный вопрос современности – что есть реальность? Уникальная традиция этой литературы вырабатывает сложные формы трансформации своей двойной культурной непричастности в тот парадоксальный философский реализм, который лишь сегодня, с высоты усвоенного и оставленного позади опыта постмодернизма, может быть осмыслен вполне. В то же время, при всей своей особости, русско-израильская литература разделяет с мировой литературой ее основную тенденцию: переход к существованию в виртуальной, сетевой, дополненной реальности. В книге рассматриваются произведения А. Высоцкого, А. Гольдштейна, Э. Люксембурга, Ю. Марголина, Д. Маркиша, Е. Михайличенко и Ю. Несиса, Д. Соболева, Я. Цигельмана, М. Эгарта и других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Грусть препятствует непрерывному переживанию «дома», то есть истины как возвращения и принадлежности. Именно она создает фрагментарность речи и нарратива, а не интеллектуальная игра, идеологическая убежденность или эстетическое экспериментаторство. Обнаруживающийся таким образом эмоциональный или, точнее, феноменологический характер фрагментарности согласуется с концепцией культуры как диссипативной системы. «Дом» всегда существует, но переживать его можно только отдельными частями, феноменами – как Лакедем: так, будто его нет.
Эту же концепцию – «как будто» – мы встречаем в словах одного из героев главы «Самбатион», Джованни, обращенных к другому персонажу, Андрею: «Когда мир перестает прятать свое лицо, становится ясно, что это огромная мозаика, но совершенно бессмысленная. Нелепая, пустая, уродливая; и первое, самое естественное чувство – это желание встать в стороне, посмотреть на все это и засмеяться <…> Чувство долга – это умение жить, как будто мы всего этого не знаем. Не ерничать, не показывать на мир пальцем, не смеяться» [Соболев 2005: 90–91]. В этих словах слышится отголосок призыва Спинозы: «Не смеяться, не плакать, не ненавидеть, а понимать» [Спиноза 2015: глава 1, пар. 4][82]. Речь идет о том философском притворстве, которое является антиподом насмешки и карнавала, его отрицанием: это отказ от смеха, потому что «смех убивает» [Соболев 2005: 91] и обессмысливает все. Жить так, как будто дома нет, можно только находясь внутри него; жить так, как будто смысл есть, можно только находясь внутри бессмысленности как задания осмысления. Отказ от смеха есть поэтому отказ от всевластия, то есть отказ от внешней, тотализующей точки зрения, от объективирующего взгляда потребителя, делающего все видимым и прозрачным[83], от взгляда «фланера», любопытного и праздного горожанина[84]. Этот отказ Джованни называет чувством долга, в смысле долга понимать, вопреки непониманию его собеседника Андрея, видящего в долге нечто противоположное – «всего лишь добровольное и бессловесное подчинение власть имущим» [Соболев 2005: 90]. И наконец, концепция, высказанная Джованни-Спинозой, объясняет рассуждения о долге последнего из рассказчиков в главе «Дерево и Палестина» – как о противостоянии всевластности и сохранении «тонкого пространства свободы» [Соболев 2005:434].
Завершая эту феноменологию грусти, седьмой рассказчик подчеркивает невидимость, недоступность, не-существование «оси мира», воплощенной в образе Иерусалима, пустоту, чуждость, «недостижимость профанного» в нем [Соболев 2005:442]. Это наводит на мысль о том значении «дома», которое является противоположностью профанного: название иерусалимского Храма звучит на иврите как «Дом святыни» (Бейт микдаш), а историческое событие разрушения Второго Храма в Иудее в I веке н. э. зачастую именуется кратко – «разрушение Дома» (хурбан а-Байгп). Грустно то, что жить можно только в профанном – как Лакедем, словно Дома, то есть Храма, нет.
Тема профанного и священного переплетается с проблемой философии и религии, а также с проблемой свободы как ускользания от власти вещей [Соболев 2005:434] – одной из центральных проблем метафизики. В этой связи можно заметить, что роман Соболева ведет диалог с «Афинами и Иерусалимом» Льва Шестова, философа, неоднократно упомянутого и в книге «Евреи и Европа». Шестов видит в европейской философии «отказ от мира и того, что есть в мире», как часть эллинского мышления в противоположность библейскому. Соответственно, он понимает свободу как свободу от всеобщих и необходимых истин эллинского мышления, от знания, от власти данности. Ему вторит один из героев Соболева: «Истина – это смерть» [Соболев 2005: 363]. Путь к свободе Шестов видит в религиозной философии: «Религиозная философия есть <…> борьба за первозданную свободу и скрытое в свободе божественное „добро зело", расцепившееся после падения на наше немощное добро и наше всеуничтожающее зло. Наш разум, повторю, опорочил в наших глазах веру: он „распознал" в ней незаконное притязание человека подчинить своим желаниям истину и отнял у нас драгоценнейший дар неба, державное право участвовать в творческом fiat (да будет), втолковав и расплющив наше мышление в плоскости окаменевшего est (есть)» [Шестов 1993: 335].
Н. Бердяев, вторя Н. Федорову и его философии воскресения, также говорит о творческом и бесстрашном преодолении истории и времени: «Воскресение означает победу над временем, изменение не только будущего, но и прошлого. В космическом и историческом времени это невозможно, но это возможно во времени экзистенциальном. В этом смысл явления Искупителя и Воскресителя» [Бердяев 1995: 160–161]. Для него царство свободы совпадает с царством истины, и состоит оно в отказе от мира. Если персонализм Бердяева выводит личность за пределы истории, то в персонализме Лосева личность реализуется в истории, что воспринимается как чудо [Лосев 1991: 134–160]. Поэтому для Лосева вопрос о свободе не стоит так остро, и уж конечно, она не видится противоположной истине. Только Шестов идет в этой религиозной философии возможного до конца и понимает, что наиболее свободное творчество – изменение прошлого, победа над временем и смертью – невозможно без отказа от истины, от самого разума и без принятия мира во всей его исторической конкретности, как он ее понимает, со всем, что в нем есть.
Однако как быть с «немощным добром и всеуничтожающим злом» [Шестов 1993: 335], с «кровавым хаосом истории» [Соболев 2005: 443]? Неужели отказ от философских истин «Афин» и выбор «Иерусалима», то есть выбор веры, в силах превратить зло в добро, снять этическое, сделать противостояние «всевластию зла» ненужным? Если все возможно, согласно Шестову, вопреки нудительной силе истины, то почему именно творчество добра и выход за пределы «окаменевшего есть», факта, должны стать выбором индивидуума? Только потому, что для Бога все «добро зело»? Но не является ли это тотальное принятие всего еще одним языком всевластия? Не становится ли тогда философия возможного новым принуждением, нисколько не приближающим к свободе и к тому же оправдывающим зло? Не будет ли тогда религиозность или, в случае Соболева, мистицизм лишь бесплодным бегством от факта, от кровавого хаоса истории в избыточность фикции, фантазии, утопии и символа, как это не раз происходило в русской литературе последнего столетия?
В ответ на это трагическое недоумение строит Соболев свой Иерусалим. Всеединству власти здесь противостоит множество путей к свободе, данности противостоит фрагментарность, непрозрачность и случайность бытия [Соболев 2005: 421], истине – тишина и молчание. В отличие от
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн