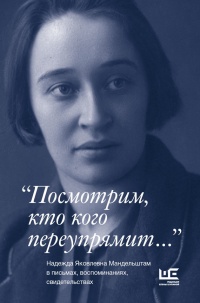Читать книгу - "Воспоминания. Книга третья - Надежда Яковлевна Мандельштам"
Аннотация к книге "Воспоминания. Книга третья - Надежда Яковлевна Мандельштам", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Вниманию читателей представлена третья книга воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам (1899–1980) — русской писательницы, мемуариста, супруги одного из крупнейших поэтов XX века Осипа Мандельштама. Мемуары являются не только бесценным источником для всех изучающих творчество О. Э. Мандельштама, но и считаются важнейшим свидетельством эпохи социализма в истории нашей страны, и в частности сталинского времени. Это свидетельства не «только о времени, но и из времени», в которых автор выносит на суд читателей целую эпоху и личности конкретных людей, высказывая свое личное отношение ко всему происходящему. На страницах книги мы встречаем имена великих современников Н. Я. Мандельштам — Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и других представителей мира искусства и литературы, чьи имена неразрывно связаны с той безвозвратно ушедшей эпохой. В издание также вошли очерки и письма Надежды Мандельштам, в которых она с горечью пишет о судьбе творческого наследия супруга в большевистской России. Особое место в книге занимают комментарии к стихам Осипа Мандельштама 1930–1937 гг.
Я это знаю, потому что как-то сказала ему, что мне не верится, что я та самая девчонка, которая... Будто это была другая... И их было несколько... О. М. ответил, что всегда был один и некоторые мысли и понятия зародились в нем необычайно рано, например, отношение к причинности и к прогрессу. Вероятно, это точно, если вспомнить его ранние статьи, где уже все основное миропонимание («О собеседнике» и «Чаадаев»). Мое же ощущение верно по отношению к себе, потому что меня оформила только жизнь с Мандельштамом: я действительно была сделана им. Вот это его ощущение целостности жизни, ее единства — очень важный психологический фактор для его поэзии. И это интересно, потому что целостное ощущение сохраняется, хотя у О. М. очень точные и ясные этапы в его поэзии. Такая внутренняя стойкость резко отличается от упорного шизоидного цепляния за свои однажды принятые идеи, потому что Мандельштам динамичен, хотя и стоит на основных выработанных и принятых еще в юности вещах (ценностных понятиях): «здесь я стою, я не могу иначе». Динамичность — это постоянные поиски ответа на изменения во внешнем мире с точки зрения этих идей. Мир для него всегда объективен, и, меняясь, О. М. остается одним, потому что его изменения — это лишь реакция на изменения во внешнем мире, в объекте, открывающие ему новые грани жизни, углубляющие, но не изменяющие его основной позиции. Недаром стихи про Лютера («Здесь я стою») он вспомнил в начале двадцатых годов, а не до революции, когда собирал «Камень».
Тема воссоздания своей жизни, своих возрастов очень характерна для Мандельштама. Именно ради нее он взялся за «Юность Гете», следствием которой был ряд стихотворений — включая «Нет, не мигрень...». Сюда же и «Шум времени» и «Египетская марка». В обеих этих вещах есть тема — зараженности мальчика и юноши своим временем, его «культурой-приличием». Подлинная свобода, наверное, состоит в том, чтобы знать, на чем стоишь, и не поддаваться культуре-приличию, культуре-моде, то есть случайной игре поверхностного слоя времени. В «Египетской марке» есть, конечно, не только попытка «переоценки ценностей», как я писала, но и этот более глубокий слой: «как я ни мучал себя по чужому подобью...»
Последняя строфа закончена уже в Воронеже при составлении «ватиканского списка». Сохранились беловики моей рукой. На одном из них приписана чернилом воронежская строфа.
«Импрессионизм»
Сохранился беловик моей рукой. Аксенов подошел к окну и сказал, что это русский художник, потому что французы пишут тонко, лессировками... Это не совсем так: масло и у них сохраняет свою специфику.
«Новеллино»
О. М., вероятно, снял бы название, как всегда делал. Я воспринимаю как шутку. Тоска по легкой жизни, чепуха, а центр в последних двух строфах про пленительных дам — новый вариант нежных европеянок. Еще и сейчас старики того поколения тоскуют по этим любезным дамам. Недавно Жирмунский мне рассказывал, как его пригласила некая уже немолодая европеянка, вдова Орбели, некогда великая соперница Анны Андреевны, отбивавшая у нее Пунина, и как ему вспомнилось прекрасное прошлое и те самые дамы, возле которых все они увивались в юности. Старик обрадовался изяществу застольной беседы, любезности хозяйки и прочим вещам — вплоть до хорошо накрытого стола. Это что-то вроде ностальгии. Ее-то никто не пересилил.
В Воронеже О. М. решил выбросить первые две строфы «Новеллино» и заменить их стихами о старике, который бегает быстрее, потому что он больше знает, а от основного стихотворения оставить только две последних. Кое-где я так и записывала, но мне было жаль «молодчиков», потому что в них я была больше заинтересована, чем в «нежных европеянках», и поэтому рукопись, и машинописная, и мой чистовик, сохранилась в полном виде. В «ватиканском списке» и в «Наташиной книге» — так, как хотел О. М. Впрочем, в «Наташиной книге» первого стихотворения вообще нет. Оно относится к тому месту в «Комедии», где говорится про Брунето Латини, учителя Данте; о том же в «Разговоре о Данте».
«Дайте Тютчеву стрекозу...», «Батюшков»
Первый подход к стихам о русской поэзии. Анна Андреевна в «Листках» пишет, что О. М. главным образом покупал старинные издания итальянцев. Это не соответствует действительности. Итальянцы были в самых обычных изданиях, большей частью оксфордских и просто старых, потому что ничто новое в те годы к нам не доходило. А вот русские поэты (XIX век) собирались на нашей полке действительно в первоизданиях: О. М. всегда хотел знать, как издал книгу сам поэт, что он у себя отобрал, что счел несущественным... Прижизненные издания русских поэтов были для него едва ли не самой дорогой частью той небольшой горсточки книг, которые он собирал по букинистам. И именно в 32 году, живя на Тверском бульваре в настоящей трущобе, он завел себе полочку и тащил туда и Языкова, и Жуковского, и Баратынского, и Батюшкова, и Державина, и еще, и еще, и еще... Случевский и Полонский появились позже всех — и просто в издании «Нивы» или чего-то вроде этого. А вот Фет был прижизненный. О. М. даже изредка (больше по памяти) сравнивал прижизненные и последующие издания. Про прижизненные он говорил: «Словно Батюшков сам дотронулся...» Это когда я спрашивала, зачем ему обязательно старое издание — ведь он не коллекционер — эту породу я всегда не переносила... Словом, 32 год был периодом пересмотра русской поэзии XIX века.
Я так и не догадалась, что за стрекоза, которую он предлагает дать Тютчеву. У самого Тютчева есть сколько угодно мотыльков, но стрекозы нет и в помине. Может, в письмах? Может, в чьей-то статье говорится о стрекозе в связи с Тютчевым? Или — и эта догадка мне кажется имеющей основания — О. М. приписал стрекоз Алексея Толстого Тютчеву? Тютчева он не перечитывал и помнил наизусть.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

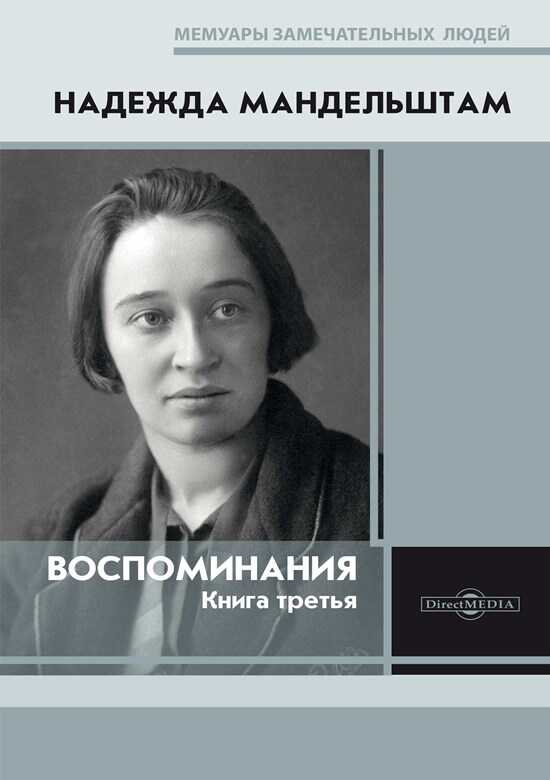

![Воспоминания. [Книга первая] - Надежда Яковлевна Мандельштам - Читать книги онлайн | Слушать аудиокниги онлайн | Электронная библиотека books-lib.com](/uploads/posts/books/277029/277029.jpg)