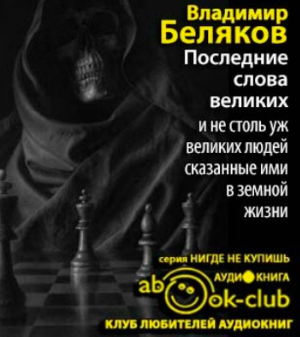Читать книгу - "Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович"
Аннотация к книге "Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
«Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955) – единственная прижизненная книга критической прозы Г. В. Адамовича (1892—1972). Составленная из заново отредактированных, а частично и вновь написанных статей, публиковавшихся в эмигрантских газетах и журналах (преимущественно в «Последних новостях» и «Современных записках» в 1920—1930-е годы, но также в «Русских новостях» и «Новом русском слове»), она подводила литературные итоги первой волны, вызвала в эмиграции интересную полемику, задав тон и уровень разговора и в большой мере определив послевоенную литературную ситуацию. В приложениях к комментированному изданию – история подготовки книги, воссозданная по переписке Адамовича, а также полный свод его писем к редакторам Издательства имени Чехова, публикуемый впервые.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
От Гоголя у Ремизова многое: сказочность, пристрастье к какой-то своеобразной внутрироссийской экзотике, самообнажение, и не только отсутствие, а враждебно-презрительное отшвыривание всякой душевной стыдливости при самообнажении. От Гоголя и юмор, «смешок», часто скрытый, чуть-чуть лукавый и уклончивый. (Непонятно только, по крайней мере для меня лично, то, что он находит Гоголя не смешным, неожиданно сходясь в этом с Тэффи, тоже всегда утверждавшей, что при чтении Гоголя она даже не улыбается, а не то, что смеется: очевидно, понятие смешного до крайности растяжимо. Пушкин, во всяком случае, был о Гоголе другого мнения.)
Гоголя тянуло к славянофильству. Тянет к нему и Ремизова, – хотя теперь, после всего того, что было на эти темы передумано, после Владимира Соловьева, сказавшего о славянофильстве самое существенное и верное, что следовало сказать, после всего, наконец, что произошло в России и с Россией, какие жалкие обрывки и остатки славянофильства могут еще нас манить и прельщать? Кое-что уцелело, несомненно, кое-что как будто даже возрождается в новом виде. Но не страшновато ли возвращаться – как склоняется Ремизов, который утверждает, что былую Москву он помнит таинственной живой памятью, – к этой допетровской, сонной, азиатской одури, подышав иным, легким и ясным воздухом, который, пусть и по ошибке, казался нам воздухом нашим, своим?
Борис Зайцев
Первое мое впечатление от чтения Зайцева – очень давнее: если не ошибаюсь, был я тогда еще в гимназии. Вспоминаю об этом вовсе не для того, конечно, чтобы говорить о себе, а потому что ранние впечатления кое в чем самые верные.[10] Отсутствие опыта, неизбежная общая наивность искупаются в них непосредственностью отклика, нерастраченной способностью восхищаться, любить, отзываться, и даже «обливаться над вымыслом слезами».
Кажется, это был «Отец Кронид». Содержание? Но ведь у Зайцева содержание всегда неразрывно связано с тоном повествования и даже в нем наполовину и заключено. Содержания я точно не помню, а помню нечто иное: фразы, обрывающиеся там, где ждешь их продолжения; краски, светящиеся, почти прозрачные, акварельные, ни в коем случае не жирные, масляные; какой-то вздох, чудящийся во всем сказанном, что-то вполне земное, однако с оттенком «не от мира сего»…
С тех пор прошло много лет. Зайцев, как художник, вырос, окреп, изменился. Изменились и мы, его читатели. Но и теперь, принимаясь за любой зайцевский роман или рассказ, с первых же страниц чувствуешь то же самое: вздох, порыв, какое-то многоточие, подразумевающееся в конце… «И меланхолии печать была на нем…» Жизнь остается жизнью, представлена она у Зайцева с безупречной правдивостью, однако в освещении не совсем таком, какое видим мы вокруг себя. Люди как будто легче, ходят они по земле, а кажется вот-вот, как во сне, над ней бесшумно поднимутся.
Есть у Зайцева одна только повесть, где он как будто пожелал глубже и прочнее внедриться в жизнь, найти для ее изображения иные, более густые тона. Название ее – «Анна». Странная это вещь, – с одной стороны чуть ли не самое замечательное из всего Зайцевым написанного, с другой – несколько двоящаяся, распадающаяся на части. Кажется, все почувствовали, что это в творчестве Зайцева – поворот, или по крайней мере стремление к нему. Покойный Муратов, помнится, даже воскликнул, что в литературной деятельности Зайцева открылась «дверь в будущее» и что на этой двери написано – «Анна». Действительно, Зайцев в этой повести впервые дал образы людей, вросших в самую гущу бытия, и образы эти удивительно правдивы, удивительно законченны: латыш Матвей Мартыныч, например, или хотя бы земская докторша, добрая, честная, неглупая, с «гуманитарной» душой и портретом Михайловского на стене. Но героиня, главное действующее лицо, сама Анна – не то, что не ясна: ее как бы нет. Зайцев обстоятельно о ней рассказывает, а она в повести отсутствует. Есть чувства, которые Анна будто бы испытывает, но нет личности, человека. Не оттого ли произошло это, что в самом замысле, к личности относящемся, что-то осталось не согласовано, и что здоровую, простую девушку, выросшую в глуши, обремененную хозяйственными заботами, Зайцев наделил чертами тончайшей, почти неврастенической духовности, очевидно, слишком ему дорогими, чтобы даже и в этой повести совсем о них забыть? Анна любит соседа-барина: явление само по себе обычное. Но любит-то она его как-то «по-декадентски», то есть с городским, книжным оттенком в этой любви, едва ли так, как любить могла бы. (Зайцев пишет даже о «внеразумности» ее ощущений…) И умирает она неожиданно, без связи с содержанием повести, совсем случайно, будто автор не знал, что ему после смерти барина с ней делать. А вся обстановка, фон, все, что Анну окружает, – все это, повторяю, удивительно в своей меткости, яркости и своеобразии.
И природа великолепна. Надо, однако, сказать, что и в ее картинах Зайцев себе и складу своему не очень изменил, и «дверь», о которой писал Муратов, оказалась значительно призрачнее,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут