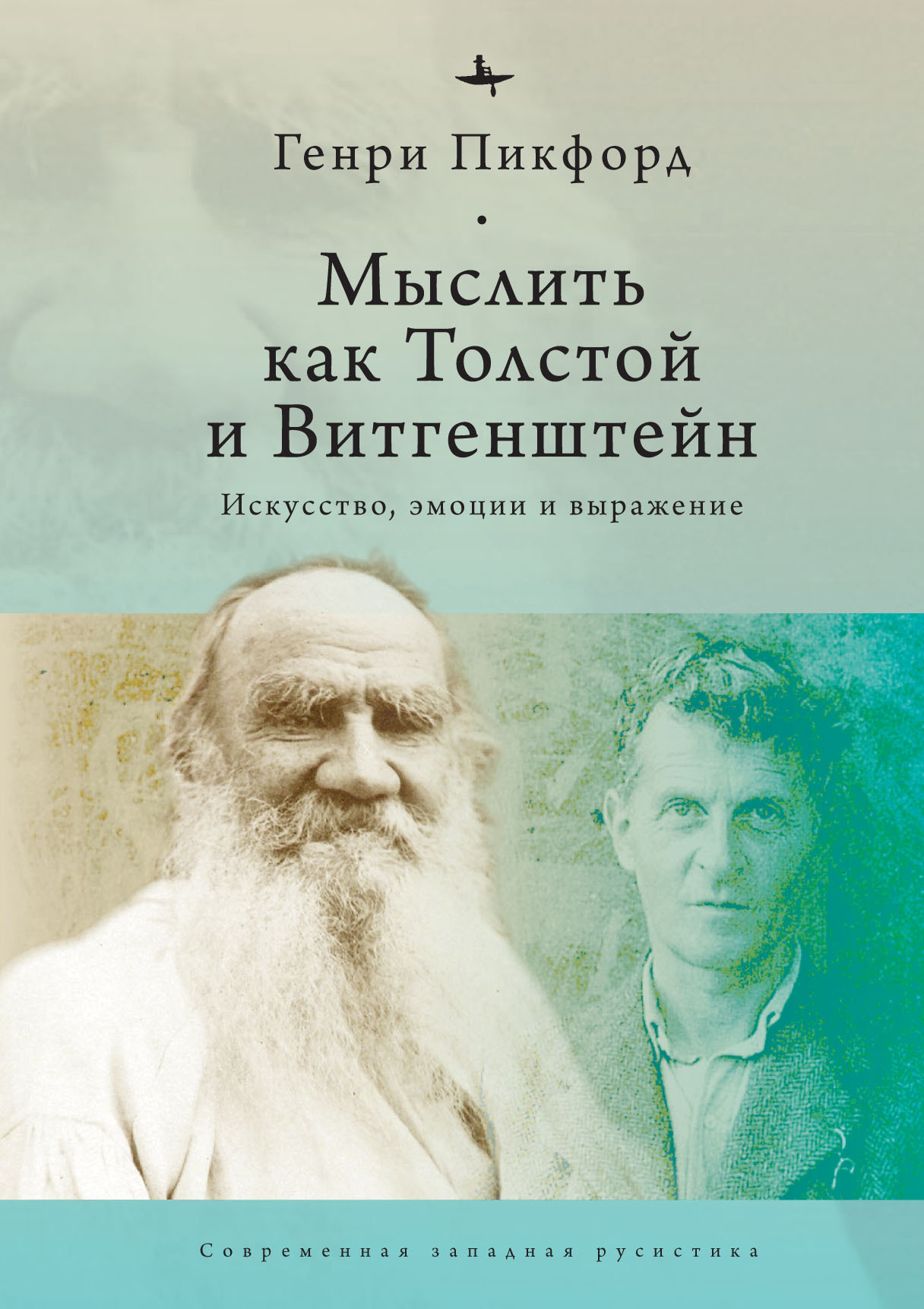Читать книгу - "Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение - Генри Пикфорд"
Аннотация к книге "Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение - Генри Пикфорд", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Философское исследование Г. Пикфорда предлагает читателю увлекательное и головоломное погружение в мир философских и эстетических идей Льва Толстого через призму их восприятия Людвигом Витгенштейном. В книге рассматривается ряд теорий эмоций и искусства, что позволяет поместить идеи Толстого в контекст европейской философской и эстетической мысли.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
…так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, – но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее! (19: 400).
Витгенштейн в заключительной части «Трактата» приходит к аналогичному выводу:
6.41. Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, как оно есть, и все происходит, как оно происходит; в нем нет ценности – а если бы она и была, то не имела бы ценности.
Если есть некая ценность, действительно обладающая ценностью, она должна находиться вне всего происходящего и так-бытия. Ибо все происходящее и так-бытие случайны. То, что делает его неслучайным, не может находиться в мире, иначе оно вновь стало бы случайным.
Оно должно находиться вне мира [Витгенштейн 1994,1: 70].
6.43. Если добрая или злая воля изменяет мир, то ей по силам изменить лишь границы мира, а не факты, – не то, что может быть выражено посредством языка.
Короче, мир благодаря этому тогда вообще должен стать другим. Он должен как бы уменьшиться или увеличиться как целое [Там же: 71].
Ценности, как и кантовская «добрая воля», не являются фактами мира, иначе они были бы случайными, произвольными, как и все эмпирические факты; и Левин тоже настаивает на том, что добро, наделяющее мир смыслом, существует независимо от того, что может случайно произойти с ним в мире. По словам Р. Фогелина,
Витгенштейн в целом придерживается того же подхода [что и Кант] к проблемам логики и проблемам ценности. Ни то ни другое не затрагивает того, что просто случайно, – напротив, они относятся к тем необходимым структурам, внутри которых возникает случайность. В кантовском смысле и логика (6.13), и этика (6.421) трансцендентальны [Fogelin 1987: 97][114].
Толстой возвращается к этой мысли в «Что такое искусство?», когда обращается к задаче различения хорошего и плохого искусства:
Оценка достоинства искусства, то есть чувств, которые оно передает, зависит от понимания людьми смысла жизни, от того, в чем они видят благо и в чем зло жизни. Определяется же благо и зло жизни тем, что называют религиями (30: 68).
Подспорьем Толстому служит руссоистская теория эпохи Просвещения, согласно которой человечество прогрессирует, развивая лучшие – то есть наиболее полезные для всех людей[115] – чувства и переживания, составляющие «религиозное сознание» эпохи, потенциал, присутствующий во всех людях этой эпохи, но яснее всего понимаемый конкретными «передовыми» личностями, которые демонстрируют или выражают этот передовой «смысл жизни» (30: 68), это религиозное сознание как понимание добра и зла. И как мы уже видели в случае обращения Левина, в «Что такое искусство?» Толстой утверждает, что добро не определяется разумом или мыслью, но является трансцендентальным:
Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, т. е. к Богу.
Добро есть действительно понятие основное, метафизически составляющее сущность нашего сознания, понятие, не определяемое разумом.
Добро есть то, что никем не может быть определено, но что определяет всё остальное (30: 78–79).
Если мы прочитаем этот отрывок сквозь призму Витгенштейна, то получим полноценную теорию. Смысл жизни, добро – это определенная этическая установка, которая пронизывает сознание человека, то есть это не что-то находящееся в мире, а то, как человек смотрит на мир, следовательно, она трансцендентально определяет все находящееся в мире. Таким образом, эта установка есть чувство, не поддающееся ни разуму, ни мысли, невыразимое на языке естественных наук. А значит, совершенствование человечества зависит не от рациональности или разума, а от чувства, которое распространяется истинными, то есть заразительными произведениями искусства. Таким образом, «это-то религиозное сознание и определяет достоинство чувств, передаваемых искусством» (30:69), разницу между «хорошим, передающим добрые чувства, и дурным, передающим злые чувства, искусством» (30: 80)[116].
Религиозное сознание своего времени Толстой понимает как основы христианства, провозглашаемые в Евангелиях: «сознание того, что наше благо, и материальное и духовное, и отдельное и общее, и временное и вечное, заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между собой» (30:154)[117]. Цель этого религиозного сознания – объединить всех людей; согласно Толстому, есть только два рода чувств, способных воздействовать подобным образом, и, следовательно, существует только два рода хорошего искусства: религиозное искусство, «передающее чувства, вытекающие из религиозного сознания положения человека в мире, по отношению к Богу и ближнему», и искусство всемирное, «передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира. Только эти два рода искусства могут считаться хорошим искусством в наше время» (30: 159).
Внутренняя логика и риторическая организация трактата «Что такое искусство?» подсказывает, что завершать его должна была бы глава XIX, страстный манифест, возвещающий о неминуемом приходе искусства будущего, искусства, которое станет «орудием перенесения религиозного христианского сознания из области разума и
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут