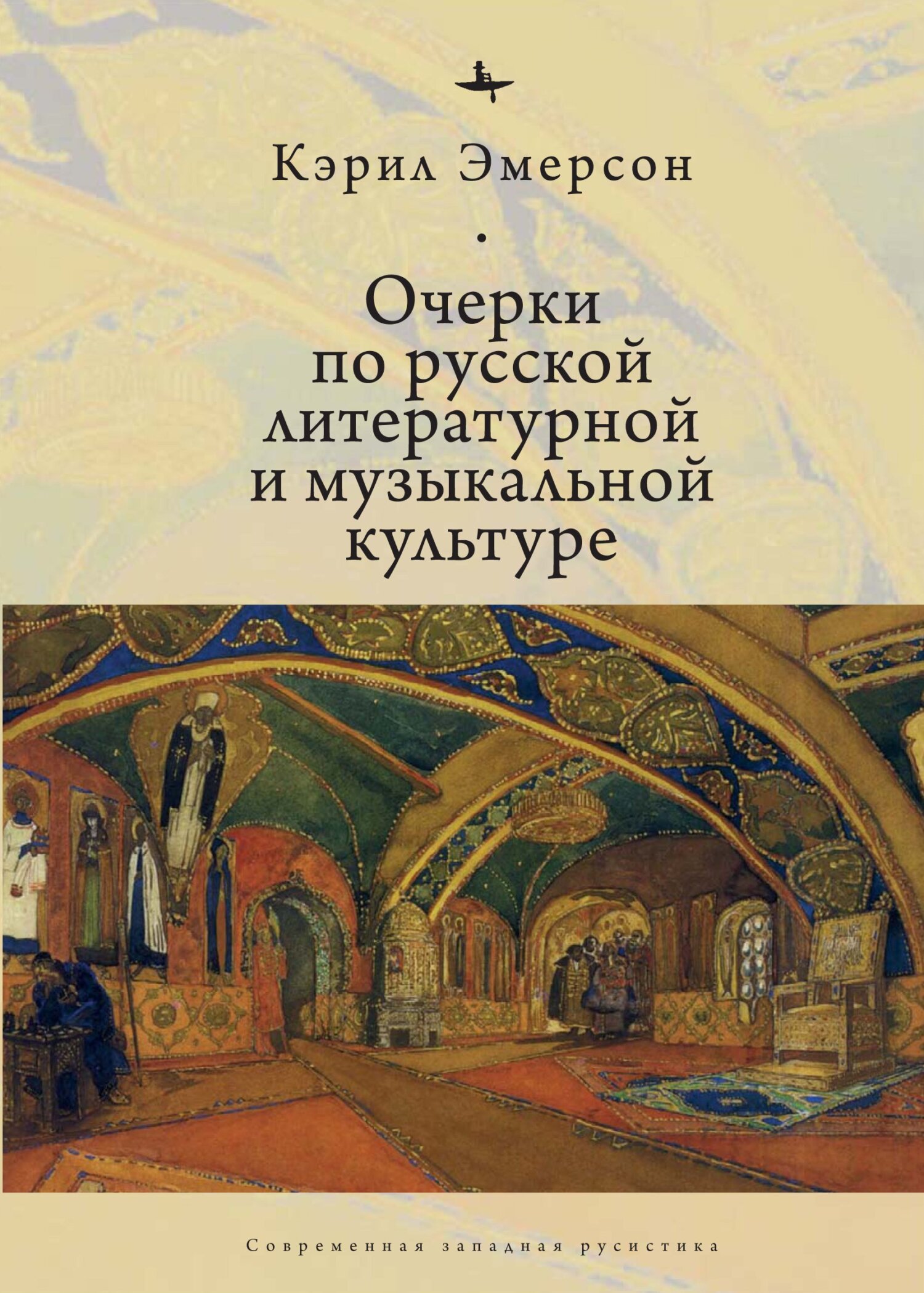Читать книгу - "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре - Кэрил Эмерсон"
Аннотация к книге "Очерки по русской литературной и музыкальной культуре - Кэрил Эмерсон", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В эту книгу вошли статьи и рецензии, написанные на протяжении тридцати лет (1988-2019) и тесно связанные друг с другом тремя сквозными темами. Первая тема – широкое восприятие идей Михаила Бахтина в области этики, теории диалога, истории и теории культуры; вторая – применение бахтинских принципов «перестановки» в последующей музыкализации русской классической литературы; и третья – творческое (или вольное) прочтение произведений одного мэтра литературы другим, значительно более позднее по времени: Толстой читает Шекспира, Набоков – Пушкина, Кржижановский – Шекспира и Бернарда Шоу. Великие писатели, как и великие композиторы, впитывают и преображают величие прошлого в нечто новое. Именно этому виду деятельности и посвящена книга К. Эмерсон.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
4. Психоаналитическое направление
Наш последний методологический пример – психоаналитический – тоже (так уж получается) связан с сознанием. Неизбежно основным текстом здесь должна стать повесть Гоголя «Нос» (1836) и ее прочтение Ермаковым в 1923 году. Как практикующий психоаналитик, с гордостью идущий по следам своего учителя Фрейда, Ермаков использовал литературу одновременно как источник и как иллюстрацию для демонстрации категорий, в которых он описывал свой клинический опыт. Его он с уверенностью прилагал и к литературному творчеству, и к личности творца. Гоголь – при его обсессивном внимании к пищеварению и опорожнению; педантичной тяге к классификациям и скаредности; при его капризах в отношениях с друзьями; чудачествах; перипетиях в отношениях с матерью, которую он стремился контролировать и перед которой в то же время преклонялся, – с легкостью квалифицировался в категориях анального эротизма. Резкие колебания от «самоуничижения» к «самовозвеличиванию» [Ермаков 1999: 267], так же как и привычка выпрашивать сюжеты у своих литературных знакомых, наводили на мысль о подавленной агрессивности, которая не позволяла ему полностью контролировать собственную обидчивость, направленную на чуждые ему взгляды.
Основанное на фрейдистском символизме чтение Ермаковым «Носа» исходит из ряда убедительных примеров. Он был знаком с подходом формалистов к Гоголю и высоко ценил их искусную работу с языком. Его анализ гоголевского текста о странствующем носе майора Ковалева основан на категориях и метафорах фрейдистской теории: нос представлен как фаллический образ, частично стыдливо скрытый, частично бесстыдно экспонируемый, копрофилический (возбуждаемый запахом) и ассоциируемый с поеданием, связанный с фраками и обувью, способный к свободному изменению как своего размера, так и бюрократического статуса и потому вызывающий одновременно унижение и ужас. Анализ дополнен множеством тонких замечаний об отдельных словах, повторяющихся фонемах и этимологии фамилий. Даже вполне ожидаемый вывод о страхе кастрации сопровождается у Ермакова пристальным вниманием к психологическим аспектам рассказа, которые, строго говоря, не являются психологическими (например, тот факт, что ни одно действующее лицо не обнаруживает изумления перед этими невероятными событиями). Это именно то, чего можно ожидать, когда подавленное начало выходит на поверхность. Раздражение, отчаяние и смущение были бы здесь уместны, но никак не удивление.
Исходя из универсалистских и общекультурных претензий фрейдистской экономики, характер ермаковского прочтения «Носа» предсказуем. Что трудно было предсказать (и чем можно было бы резюмировать все четыре критических подхода, рассмотренных в этом практикуме), так это те моменты, в которых «фрейдистские» приоритеты высвечивают (а иногда и усиливают) базовые ценности, которые мы отмечали в трех других направлениях русской литературной теории 1920-х годов. Адресуясь к скептическому русскому читателю молодого, недавно разрушенного и едва восстановленного материалистического революционного государства, Ермаков обосновывает свой подход при помощи нескольких взаимосвязанных аргументов, каждый из которых несет на себе след мысли строгого моралиста и лишенного сантиментов сторонника строгой дисциплины по имени Зигмунд Фрейд.
Прежде всего, творческий процесс определяет и подпитывает огромная сфера бессознательного, наполненная теми «неудобными и нетерпимыми» структурами [Ермаков 1999:262], которые навязали нашей психике цивилизация и общество. Боль, причиняемая социальным прогрессом и трансформациями, реальна, убеждает нас Ермаков, и люди не фантазируют, говоря, что страдают от них. Фантазия сама по себе – иллюзия. На каждом уровне реальность даст почувствовать себя. «Творец черпает материалы для своих произведений из действительности» [Ермаков 1999: 263] и может быть силен и правдив лишь постольку, поскольку он противостоит реальности. Эстетическое выражение являет собой, таким образом, абсолютно реальную когнитивную проблему, «способ познания мира художником» [Ермаков 1999: 263], поскольку он существует объективно. В этом знании нет ни гедонизма, ни замкнутости. Стремление к познанию растет из страха одиночества и, следовательно, сугубо социально. Поскольку бессознательное является движущей силой, а страхи разделяются всеми, они и поняты могут быть всеми: «В темных и богатых силами областях примитивных инстинктов» (а не в окультуренном цивилизацией и сознанием мышлении) «находит художник базу для своего общения с человечеством» [Ермаков 1999: 263]. И наконец, в процессе обуздания этих сил путем направления их вовне, в энергичное «здоровое искусство», создаются новые культурные ценности, которые будут бороться и победят все, что «эгоистично, во имя всечеловеческого» [Ермаков 1999: 263].
Осмысливая эту позицию, понимаешь, что Ермаков едва ли обратил бы внимание на претензии Волошинова к фрейдистскому проекту в 1927 году. Фрейдистский субъект не изолированное, биологически обособленное эго, пораженное умирающим классом и не ищущее от своей ущербной жизни ничего, кроме эротического удовольствия или смерти. Напротив, самоанализ этого субъекта обогатился целым набором возможных моделей: аристотелевским катарсисом; толстовской эстетической теорией заражения; дионисийским культом скифства символистской эпохи; философским монизмом; но прежде всего активистским материалистическим стремлением художника претворить дела в слова, с тем чтобы затем (на противоположном полюсе терапевтической интерпретации творчества) превратить слова в социальный акт.
Подобная двусторонняя операция соответствовала духу этого амбициозного и новаторского десятилетия, хотя доминанты, управлявшие различными направлениями, отличались радикально. Авторы статьи «Наука как прием» в ходе рассмотрения темы «1920-е как интеллектуальный ресурс» заметили, что «ориентация эпохи» так или иначе была «на рациональный контроль над стихийными и естественными силами» [Дмитриев, Левченко 2001: 230]. Принципиально важно, однако, что этот контроль осуществлялся над новым, революционным искусством. Это было уже не абсолютное, совершенное и воскрешенное целое, восходящее к классической модели, но произведение (хотя и автономное), которое рассматривалось во всем многообразии отношений. С воцарением сталинизма, однако, надежд на динамичный «неклассический подход в гуманитарном знании» [Дмитриев, Левченко 2001: 231] не осталось.
* * *
Настоящая глава была посвящена анализу той внутренней борьбы, что определила развитие исследований литературы в Советском Союзе в 1920-х годах. В заключение взглянем на ситуацию в более широкой перспективе. В своем эссе «Почему современная литературная теория произошла из Центральной и Восточной Европы? (И почему она сейчас мертва?)» Галин Тиханов высказал мысль о том, что русский формализм служил тем основанием, на котором зиждились амбиции литературной науки вплоть до 1970-х – «эмансипироваться от большого философского дискурса» [Tihanov 2004: 62]. Однако после кибернетической революции семидесятых по известным нам причинам философия и идеология вернулись, в результате чего занятия литературой «потеряли остроту специфичности
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут