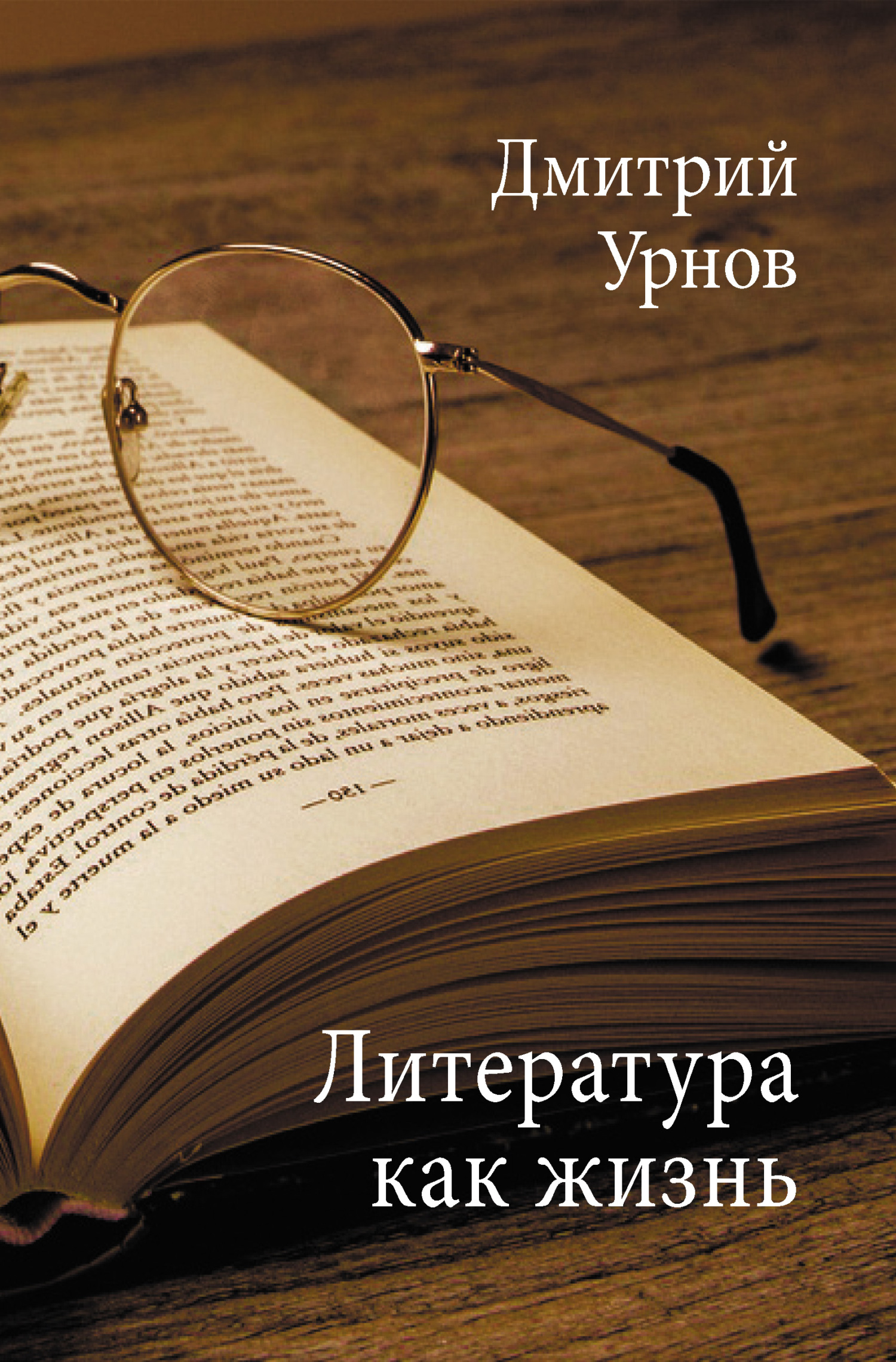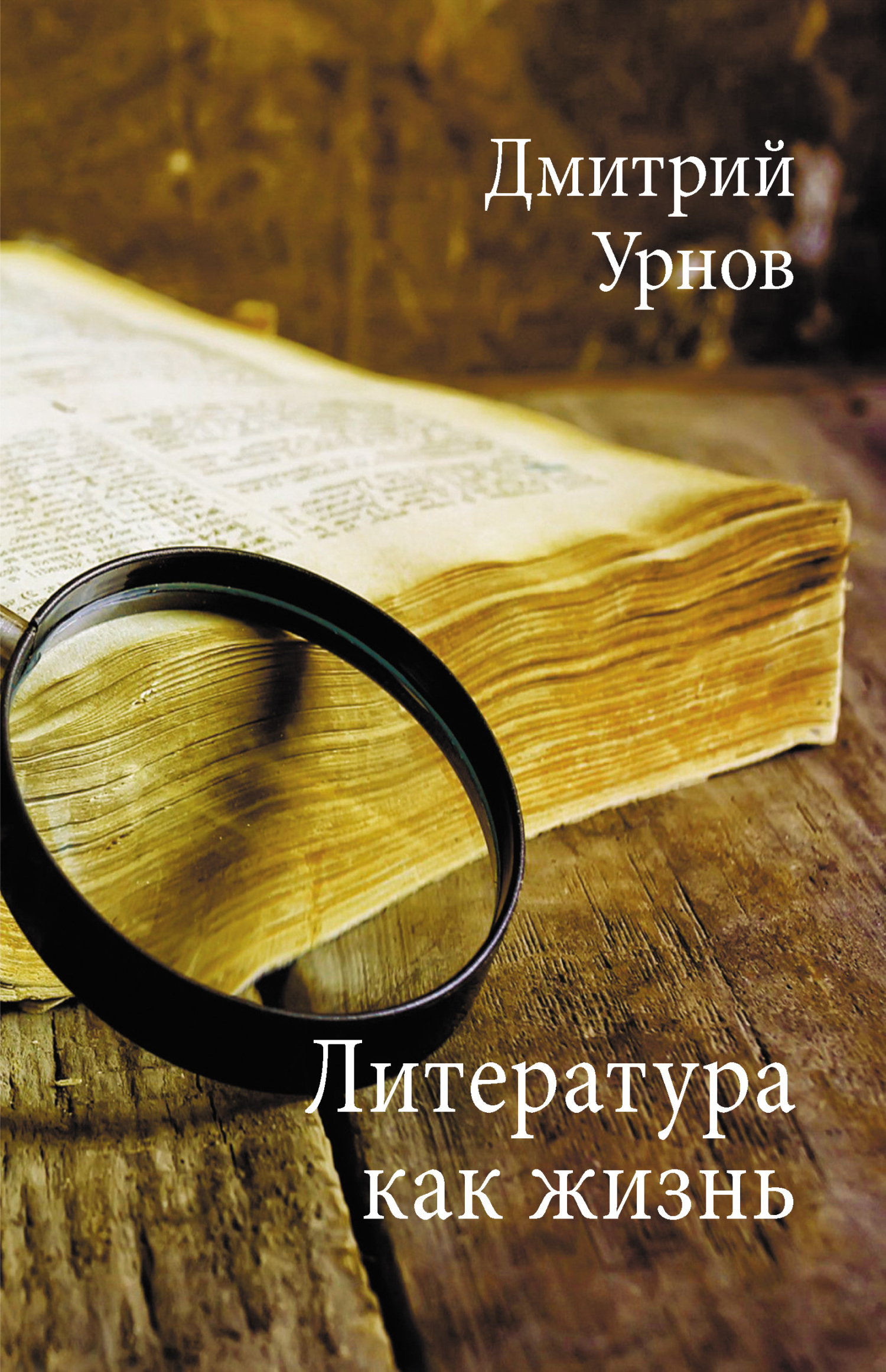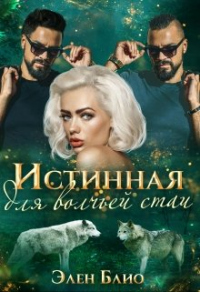Читать книгу - "Литература как жизнь. Том II - Дмитрий Михайлович Урнов"
Аннотация к книге "Литература как жизнь. Том II - Дмитрий Михайлович Урнов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Дмитрий Михайлович Урнов (род. в 1936 г., Москва), литератор, выпускник Московского Университета, доктор филологических наук, профессор.«До чего же летуча атмосфера того или иного времени и как трудно удержать в памяти характер эпохи, восстанавливая, а не придумывая пережитое» – таков мотив двухтомных воспоминаний протяжённостью с конца 1930-х до 2020-х годов нашего времени. Автор, биограф писателей и хроникер своего увлечения конным спортом, известен книгой о Даниеле Дефо в серии ЖЗЛ, повестью о Томасе Пейне в серии «Пламенные революционеры» и такими популярными очерковыми книгами, как «По словам лошади» и на «На благо лошадей».Второй том – галерея портретов выдающихся личностей, отечественных и зарубежных писателей, актеров, ученых, с которыми автора свела судьба.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Ещё эпизод из ненаписанной саги «Псевдосоветские отцы и антисоветские дети». Молодой сотрудник ИМЛИ, способный литератор, сын посла (бывшего переводчиком у Сталина), принял участие в переправленном за рубеж сборнике. За одно чтение того сборника можно было угодить за решетку, а ему, составителю и соавтору, хоть бы что! Крови нарушителя спокойствия никто из нас не жаждал, просто недоумевали, как же так? Чудо объяснил Бердников. К нему неофициально, но настойчиво обратился первый помощник Брежнева: «Не трогайте его». И это когда за чтение того же альманаха трогали, и ещё как трогали! Директор не был кровожаден, однако обеспокоился, предчувствуя, что, как говорится в «Гамлете», грядёт пора каких-то странных смут, раз начали поступать просьбы невероятные, судя по источнику, откуда они поступают. Директор видел разные времена и наблюдал разоблачений немало, ему и намека не требовалось, чтобы предвидеть последствия либерального послабления в сочетании с неослабевающей строгостью. Герой истории сам рассказал в зарубежной печати, как было дано и выполнено указание свыше его не трогать. Всё рассказал начистоту, не рассказал о тех, кого трогали, если видели у них в руках составленный им альманах[192].
Наконец, Светлана Иосифовна Аллилуева. «Мне ненавистно возвращаться к памяти о прошлом», – писала дочь Сталина за границей. А что у неё, кроме прошлого, было, о чем стоило бы поведать миру? «Горжусь своим отцом за то, что он сопротивлялся идее восстания», – в телевизионном интервью сказала она, имея в виду краткий, преходящий момент, когда Сталин оказался заодно с теми, кто отвергал ленинские сроки переворота. А что если бы её отец продолжал сопротивляться Ленину, и не совершилось бы в октябре 17-го переворота, не написал бы её отец слов, которые мы заучивали наизусть: «Громом своих пушек крейсер “Аврора” возвестил начало новой эры, эры Великой Октябрьской революции»? Мир всё равно интересовался бы Светланой Иосифовной?
«Нашим детям и внукам».
Был случай, не у себя в редакции, в другой, военно-спортивной, где проходили мои книжки о лошадях, очутился я один на один с братом Брежнева. Заведующий редакцией, найдя между нами внешнее сходство, сначала решил, что это мой родственник, и прошипел мне на ухо: «Мало того, что мы тебя издаем, ты ещё своего родича притащил». Однако, узнав, чей родич, побежал по начальству, остался я с братом с глазу на глаз.
«Как они платят?» – спросил ветеран войны-инвалид. Брат первого государственного лица ещё только собирался писать мемуары, но уже хотел знать, какое получит вознаграждение. Спросить, кроме меня, больше было не у кого. Как мог, я информировал требовательного будущего автора и, в свою очередь, спросил: «Что за человек Леонид Ильич?». Отставной воин словно по команде выпалил: «Семьянин!» Услышал бы это Сталин! Видел же я на Тверском бульваре Молотова с Жемчужиной, правительственных супругов, некогда разделенных колючей проволокой: жена цеплялась за мужа, словно боясь, что её снова от него оторвут. Великий вождь стрелял, сажал, держал в ежовых рукавицах членов семей своего непосредственного окружения, не щадя собственных ближайших родственников и желая всем ради острастки показать, насколько же он человек не семейный[193]. Возрастание семейственных чувств в нашем обществе заметил американский социолог Талкот Парсонс, но это в 1951-м, на излете сталинского властвования, и ближайшее окружение вождя сознавало, что он велик, но не вечен. А уж как только пал культ его личности, оказался учрежден культ семейственности.
«Мы живем ради наших детей», – лозунг родителей на исходе существования Советского Союза. Ради чего же иначе существуют родители? Но у нас были особые обстоятельства, обострявшие родительские чувства. Из послереволюционного поколения никого не пощадили социальные встряски, многих так или иначе коснулись политические преследования, редкая семья осталась без шрамов войны. В классе, где в подмосковной школе училась моя жена, среди сорока учащихся ни у кого не было отцов: погибли на фронте. Отец жены, так сказать, «уцелел», не подорвался на мине в нацистском трудовом лагере, а на родной земле не попал в отечественный лагерь благодаря жалости пограничников, не выдержавших вида четырех малолетних узников нацизма, которых они должны были обратить в советских малолетних узников. Едва ли не все, если не было у них доступа в спецраспределители (описанные Хедриком Смитом), испытывали постоянные нехватки (вечный дефицит), ютились в жилищной скученности. Обычные бытовые условия: общие квартиры, как у нас на Якиманке, через мост, в виду Кремля: семнадцать человек на одну уборную, без горячей воды. Предметы первой необходимости было невозможно пойти в магазин и купить, даже имея какие-то деньги, надо было всё доставать, значит, стоять, иногда по нескольку часов, в очереди. Вытягивались длиннейшие «хвосты», к ним подстраивались люди, спрашивая «Кто последний?» и не спрашивая «Что дают?» А что дают, узнавали уже в процессе стояния.
На этот сюжет думал я рассказ написать о случае мне известном из первых рук. Молодая американка, стажер-советолог, стояла в очереди у магазина. Вдруг увидела, что её соотечественница, туристка, пытается пройти без очереди. Наша очередь не смела роптать: иностранка! Но в Америке сунуться без очереди немыслимо – растерзают. Молодая американка прошла в голову очереди и дала соотечественнице по физиономии. Очередь в ужасе замерла: что теперь будет?! Советолог вернулась на свое место, покупать ничего не собиралась – проводила социальный эксперимент стояния в советской очереди.
Трудно поверить? Мало ли чему трудно поверить, что, однако, бывало! Но чему трудно поверить, так это разуверениям нынешних аналитиков, которые уверяют, будто никакого стояния не было. Нет, стояли! Например, родители – за зимними пальто для своих детей. В том же московском универмаге «Детский мир», куда поехали за игрушками вернувшиеся из Индии (где жили со слугами), форму продавали на верхнем, четвертом этаже. Игрушки – без очереди, но за одеждой очередь вилась огромной змеей по лестничным пролетам. Встать в очередь и выстоять приезжали из других городов, где таких очередей не было, но и пальто там не продавали. И стояли матери, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке буквально. Претерпевая «временные трудности» люди из года в год существовали в предвкушении, что им
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут