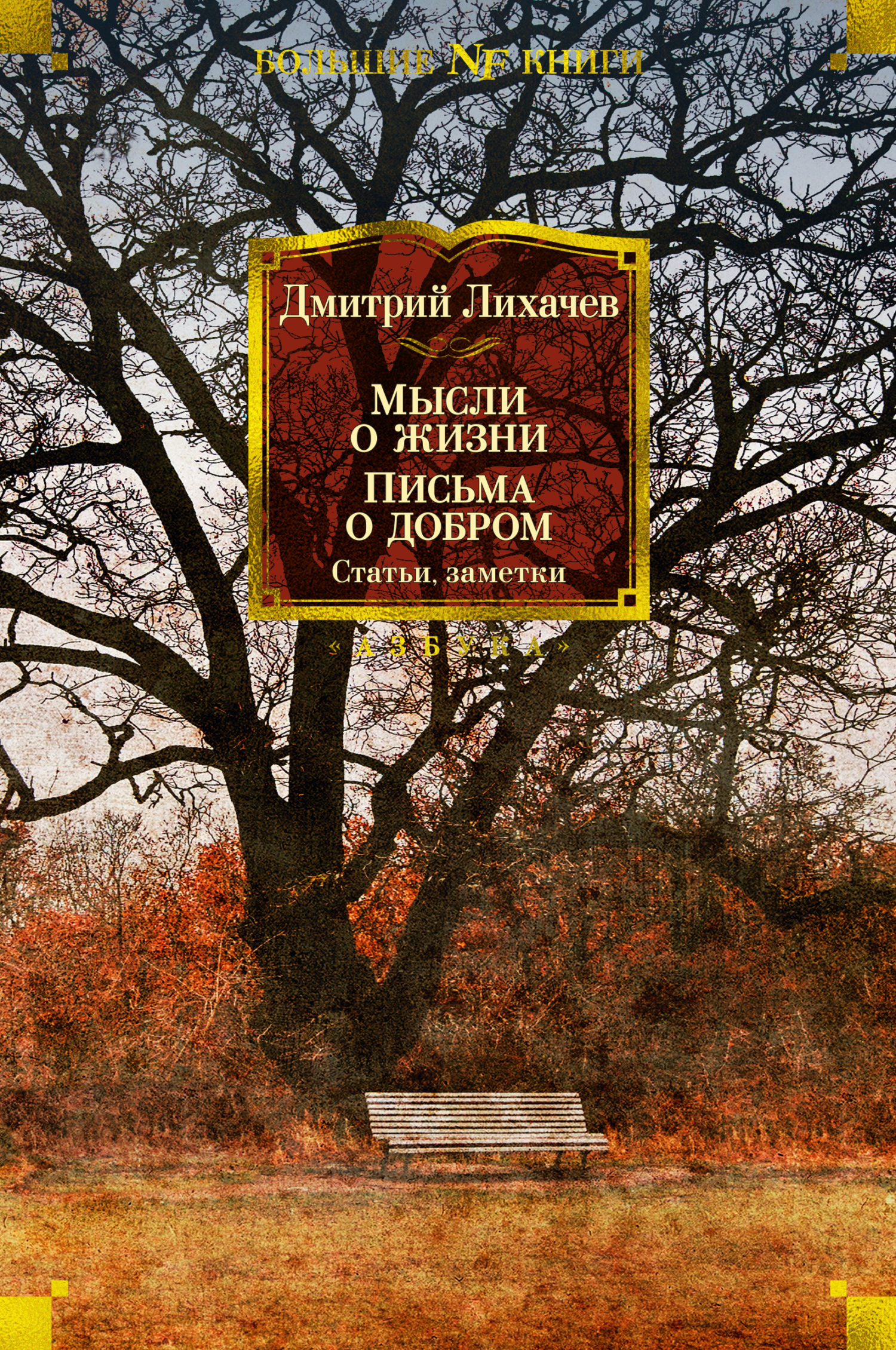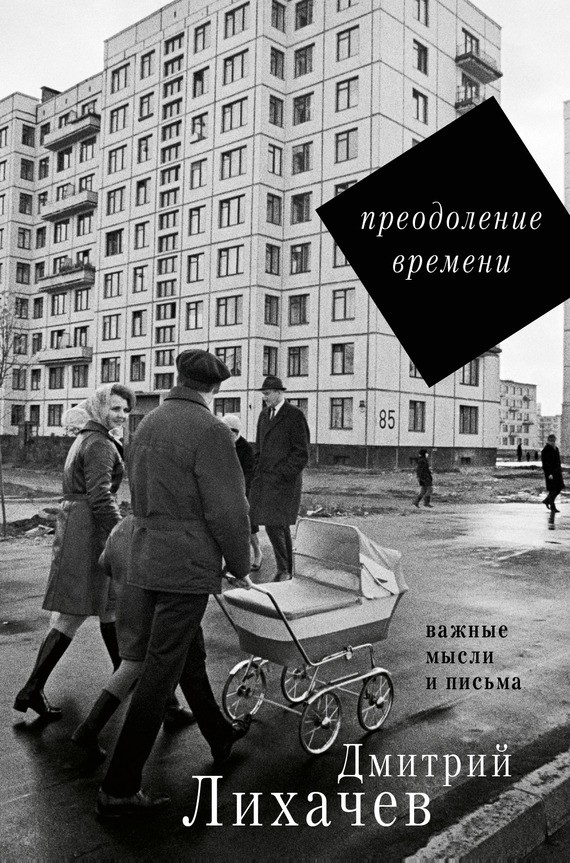Читать книгу - "Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки - Дмитрий Сергеевич Лихачев"
Аннотация к книге "Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки - Дмитрий Сергеевич Лихачев", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Имя Дмитрия Сергеевича Лихачева, одного из крупнейших ученых XX века, известно во всем мире и давно стало символом научного и духовного просвещения. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад, до садово-парковых стилей XVIII-XIX веков. Он никогда не был равнодушным к происходящим вокруг событиям и говорил о себе: «Всю жизнь я не оставался наблюдателем. Мне всегда надо было быть участником. Всегда вмешивался и получал шишки. Но если бы шишек не было, был бы несчастнее. А когда добивался – получал радость». Воспоминания «Мысли о жизни» стати едва ли не летописью XX столетия, вобрав в себя важнейшие вехи в истории нашей страны: петербургское детство, юность в лагере на Соловках, строительство Беломорско-Балтийского канала, блокада Ленинграда, полувековой научный труд в Пушкинском Доме… В «Письмах о добром», статьях и заметках разных лет Д. С. Лихачев, выходя за пределы «чистой науки», размышляет на темы, важные для каждого человека: о красоте окружающего мира, об искусстве, о смысле жизни, историческом прошлом и культурной памяти. Д. С. Лихачеву было свойственно умение говорить понятно и просто о самых сложных вопросах, именно поэтому его книги востребованы не только в профессиональной среде и так любимы читателями.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Когда в 1937 г. я уходил из издательства, хорошее отношение ко мне А. С. Орлова сильно помогло. А. С. пришел в дирекцию (он был заместителем директора Пушкинского Дома, но в дирекционных делах принимал участие лишь спорадически и в директорском кабинете не сидел, предпочитая ему, как я уже сказал, площадку на лестнице второго этажа, где и вел разговоры со всем институтом) и безапелляционным тоном заявил: «Лихачева надо принять». Сразу появилась ставка, и меня приняли сперва в издательскую группу (не помню, как точно она называлась), а через несколько месяцев и в Отдел древнерусской литературы. Находясь в издательской группе Пушкинского Дома, я посещал все заседания Отдела древнерусской литературы. По корректорской привычке внимательно относиться к тексту рукописей при обсуждении главы, написанной М. О. Скрипилем для десятитомной «Истории русской литературы», я сделал свои «корректорские» замечания. М. О. Скрипиль возмутился и стал говорить на ту тему, что он не намерен выслушивать замечания лиц, ничем еще себя не проявивших в науке, но осмеливающихся его учить. Я молча ушел с заседания и решил на заседания отдела вообще не ходить. Но А. С. Орлов не начал очередного заседания без меня, пошел в помещение издательской группы (комната, в которой находится сейчас редакция журнала «Русская литература»), взял меня за руку и привел на заседание, а после заседания отправился в дирекцию и приказал перевести меня в Отдел древнерусской литературы. С тех пор я и работаю в этом отделе (теперь Секторе) – уже пятьдесят семь лет. Так просто и властно, взяв меня за руку, определил А. С. мою судьбу.
А. С. Орлов, как я уже сказал, был натурой артистической. Он не только был академиком, но он и играл в академика, искусно создавая свой образ – не просто даже академика, а русского академика, балагура, шутника, ругателя и добряка одновременно. Он гордился тем, что по матери он был потомком писателя Лажéчникова, называя его Лóжечниковым. Гордился он и своим учителем – Семеном Осиповичем Долговым, гордился своей былой службой в Синодальной библиотеке, своим «русизмом» (это его словцо), но никогда не был националистом, всегда любил представителей малых народов Союза ССР в Пушкинском Доме и во время войны, очутившись в Казахстане, сразу принялся за казахский язык и написал книгу о казахском эпосе. Несмотря на то, что он не пожелал осмотреть Париж, находясь в нем, он любил для души читать Жюля Верна (в «Жуле Берне», я думаю, он любил чувствительную сторону его романов) и переводил Мюссе. Глядя на него, на его грозную наружность и слушая его балагурство, никак нельзя было сказать, что он любил Фета и мастерски, с выражением читал его стихи.
В жизни он постоянно играл, приспосабливал свое поведение к своей изуродованной внешности и к своему положению знаменитости. Его чисто внешняя грубость шла от внутренней застенчивости. В сущности, он был добряком и очень печальным человеком.
Он писал мучительно и мало, но знал чрезвычайно много и о многом рассказывал на заседаниях Отдела древнерусской литературы по любому поводу. Жаль, что не сохранилось записей его выступлений. Вела протоколы В. П. Адрианова-Перетц, но болезнь мешала ей подробно записывать и тем более поспевать за ходом мысли А. С. Орлова. В молодости он много работал в рукописных хранилищах Москвы, и его выступления на заседаниях отдела были, в сущности, «воспоминаниями о рукописях». К занятиям рукописями он постоянно побуждал всех участников заседаний и неоднократно говорил: «Нам надо закрыть отдел и разойтись по рукописным хранилищам».
Находчив на слова А. С. Орлов был чрезвычайно. Он умел поставить на место «самомнеющего» оратора вовремя поданной репликой или неожиданным и всегда остроумным вопросом, который порой был не столько вопросом, сколько насмешкой над оратором, показать легковесность, а иногда и невежество выступающего. Его боялись, при нем опасались халтурить, безответственно относиться к сказанному; его присутствие в науке было чрезвычайно важно и служило надежным заслоном от необоснованных гипотез или того, что он называл «пошлостью». Даже тогда, когда, после войны вернувшись из Казахстана, он почти не выходил из квартиры, постоянные его посетители (а он был очень гостеприимен и любил, когда его навещали) разносили по Пушкинскому Дому его высказывания, его суждения, сказанные им остроты и каламбуры. Слова его были всегда метки, и сотрудники боялись попасться ему на язык. Его находчивость особенно проявилась во время его юбилея. Он отвечал каждому приветствовавшему его коротко, остроумно, с блеском, показывая несбыточность пожеланий и преувеличенность похвал.
Был он остро наблюдателен – к языку, к стилю, к душевным движениям своих собеседников. В нем сочетались два человека: один постоянно игравший академика, а другой чуткий и внимательный, не терпевший неискренности, пошлости и лжи, со своеобразными, но несколько старомодными литературными вкусами.
Часто он давал «маленькие представления» – чтобы не было скучно, чтобы было что рассказать и вообще потому, что он любил играть, а потом весело рассказывал о своем озорстве.
Вот один из его рассказов о себе (передаю его в общих чертах, так как не помню всех выражений А. С., всегда артистически точных). Шел А. С. из своего дома в Пушкинский Дом мимо Академии художеств. Кончились какие-то занятия, и студенты гурьбой высыпали из главного подъезда. Увидев проходящую величественную фигуру
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
-
 Гость Елена12 июнь 19:12
Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗
Поклонник - Анна Джейн
Гость Елена12 июнь 19:12
Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗
Поклонник - Анна Джейн
-
 Гость24 май 20:12
Супер! Читайте, не пожалеете
Правила нежных предательств - Инга Максимовская
Гость24 май 20:12
Супер! Читайте, не пожалеете
Правила нежных предательств - Инга Максимовская
-
 Гость Наталья21 май 03:36
Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.
Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная
Гость Наталья21 май 03:36
Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.
Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная