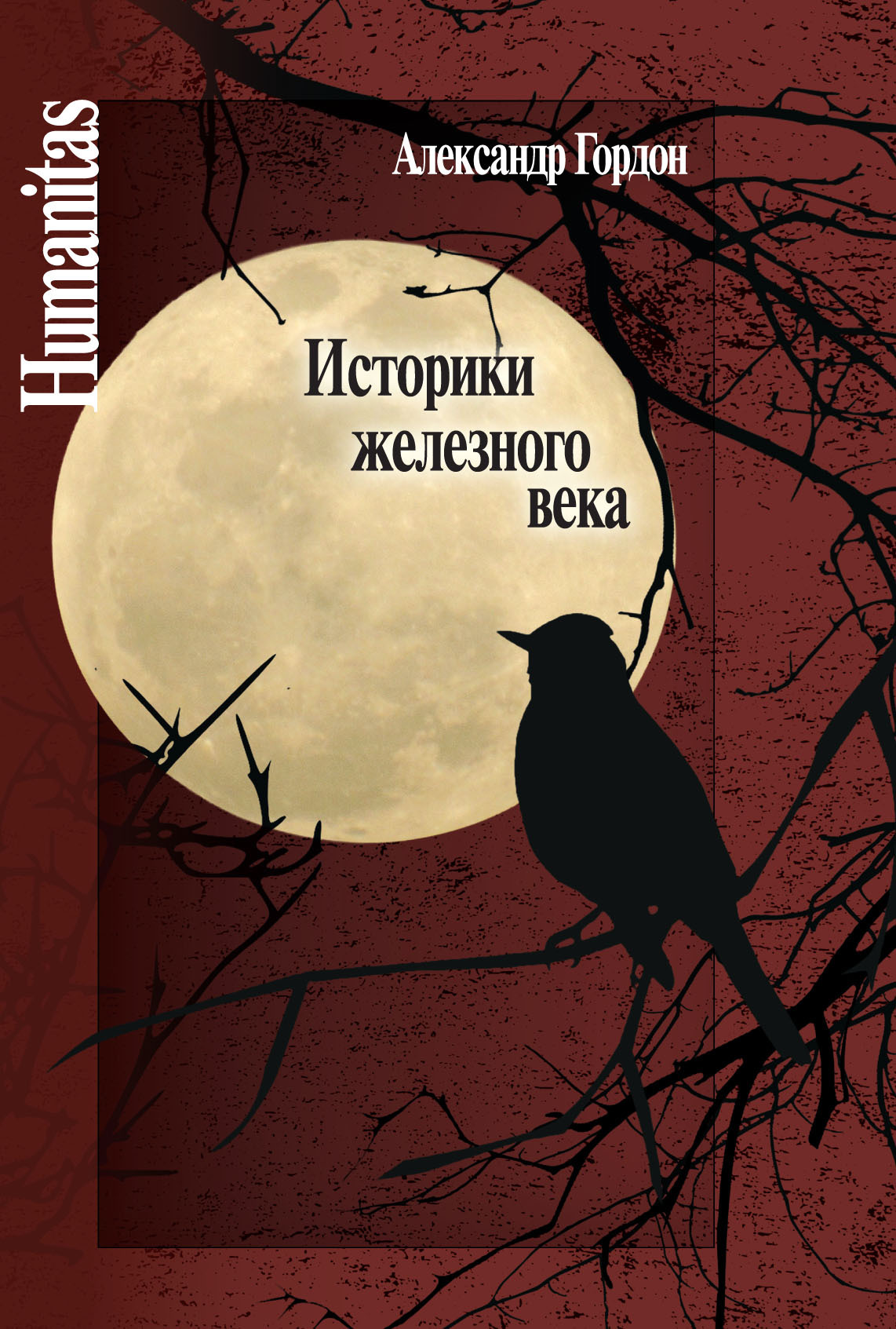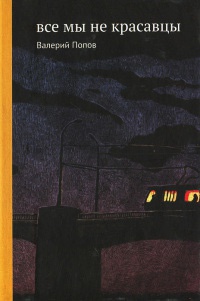Читать книгу - "Историки железного века - Александр Владимирович Гордон"
Аннотация к книге "Историки железного века - Александр Владимирович Гордон", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В книге рассматривается вклад ученых советского времени в развитие исторической науки. Автор стремится к восстановлению связи времен. Он полагает, что история историков заслуживает не меньшего внимания, чем история описываемых ими событий. Создавая «историографические портреты» ученых, описывая их жизненный путь, творчество, среду, автор стремится показать позитив – то, что внесла советская историческая наука в мировую историографию, а также роль индивидуального вклада в науку в условиях идеологического давления. Анализ научного наследия различных поколений историков дополняется материалами личного архива, дневниками, перепиской, воспоминаниями. Это позволяет автору воссоздать широкую панораму идей и суровую драматургию советского историознания. Книга предназначена для историков и широкого круга читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
В общем, как резюмирует активный участник обсуждений 1988–1990-х годов Александр Викторович Чудинов, советские историки Французской революции «находились на распутье: с одной стороны, они еще и не помышляли о том, что когда-либо смогут выйти за пределы марксистской парадигмы, в лоне которой произошло их профессиональное становление, с другой – они уже остро ощущали невозможность дальнейшего развития науки в жестких идеологических рамках и всеми силами стремились эти рамки раздвинуть»[1213].
Несомненно, юбилейные обсуждения продемонстрировали энергичное стремление к обновлению. В.П. Смирнов прав: «Уже проявились характерные тенденции постсоветской историографии». Была, однако, особенность, отличавшая этот этап от последовавшего за августом 1991: даже приверженцы подходов, расходившихся с советской традицией, как правило, старались не акцентировать своего расхождения с той версией марксизма, которая была ее теоретической и мировоззренческой основой.
«Все объявляли себя “марксистами”, но, – считает Смирнов, – фактически в той или иной степени находились под влиянием “ревизионистского” направления французской историографии»[1214]. В ходу были рассуждения о многообразии точек зрения, о «диверсификации» проблематики (Адо), наиболее смелые заговаривали о необходимости плюрализма. Последний при этом, как мы видели на примере Сытина (гл. 8), толковался по-разному.
Юбилей 200-летия продемонстрировал необходимость воссоздания историографической полноты. Была подчеркнута актуальность вклада тех историков прошлого, которыми советская историография упорно пренебрегала, если не занималась разоблачением. Адо сформулировал вывод, что советская историография была частью – хотя и особой – «классической» традиции. И объективно это было так. Но субъективно, по оценке Черняка, советские историки «не рассматривали себя частью мировой исторической науки»[1215]. Это выражалось и в критике «отступлений» представителей «классической» традиции, и особенно в неприятии подходов вне этой традиции, прежде всего «ревизионистской» линии.
На юбилейном обсуждении, в частности в Институте всеобщей истории, был сделан серьезный шаг к выходу из идеологической изоляции. Родилось понимание, что «“автаркия” отечественной науки неизбежно обречет ее на растущее отставание от мирового уровня»[1216]. Собственно уже Адо признал справедливость «ревизионистской» критики в таких моментах, как увлечение советской историографии якобинцами и социальными «низами», выявлением разрыва с дореволюционным обществом и разрушительными аспектами революционного насилия. Молодые историки были настроены к конструктивному восприятию «ревизионистского» движения. При этом ученики Адо склонялись, можно сказать, к акцентированию множественности исторической истины или, точнее, допустимости различных форм ее вербализации.
Пименова, например, констатировала, что между марксистами и «ревизионистами» нет принципиального расхождения в понимании исторического смысла якобинского периода: «Идея “заноса” представляет всего лишь вариант известного высказывания Ф. Энгельса о том, что Французская революция в период якобинской диктатуры вышла за пределы непосредственно достижимых задач буржуазной революции». Разница в том, что для первых это «позитивное явление», а для вторых – «негативное», т. е. различие «не в научных подходах, а в ценностных ориентациях».
Очень интересным было последовавшее за этой констатацией разъяснение, где Людмила Александровна показывала определяющее влияние ценностей на подходы: «В одном случае революция как таковая предстает высшей ценностью, воплощающей абсолютное добро, и служит критерием для оценки исторических событий и поступков людей, то есть положительно оценивается то, что было революционным, политически радикальным; отсюда проистекает идея восходящей линии революции и оценка якобинской диктатуры как ее высшего этапа. В другом случае в качестве высшей ценности выступают права человека и положительно оценивается то, что гарантирует их, а то, что их ущемляет, рассматривается как вредное, исторически бесплодное (курсив мой. – А.Г.)».
«Историку, занимающемуся изучением Французской революции, – заключала Пименова, – стоит задуматься, какие ценности лично ему ближе (курсив мой. – А.Г.)[1217]. Чувствовалось, что Людмила Александровна определилась с личными ценностями, и потому, возможно, сопоставление «революция как таковая» vs «права человека» выглядит не вполне корректным, ведь и марксисты оценивали революцию не только per se, но и как реализацию «завоеваний».
Принципиальным различием оказывалось здесь то, что марксисты делали упор на завоевании социальных прав, фактически игнорируя проблему индивидуальных прав, процесс освобождения личности. Фундаментальным было и другое различие, которое тоже выявилось в оценке якобинской диктатуры: марксистская, прежде всего советская историография сосредоточивалась на проблематике государственной власти, тогда как оппоненты – на формировании гражданского общества.
Главное Пименова сказала: для советских историков наступало время выбора, который становился самоопределением личности ученого. О том же, но другими словами и исходя из иного опыта говорил ее учитель: «Новое мышление вооружает нас в размышлениях о том, что из наследия Французской революции сохраняет немеркнущую ценность и что должно быть рассмотрено именно как присущее лишь той эпохе (что следует, в частности, отнести к тем кровавым формам исторического творчества, которые мы не можем принять сегодня)».
Назвав это «вопросом научного и общественного выбора каждого историка», Адо заключал: «В наши дни, когда для исследователя наступила пора раскованного, свободного от идущего извне науки принуждения и есть возможность думать и писать без внутреннего и внешнего цензора… этот выбор является реальной возможностью»[1218].
Трудно переоценить значение того обстоятельства, о котором говорил Адо. Торжество «нового мышления» означало, конечно, освобождение от уз культуры партийности, сковывавших исследовательскую мысль нескольких поколений советских ученых, но оно же вводило новую регламентацию – запросы активной части стремительно формировавшегося гражданского общества. Как выразился Черняк, историк, уклоняющийся от этической оценки террора и якобинской диктатуры, рискует не найти себе «достойного читателя и слушателя»[1219].
Адо в полной мере ощущал давление этой реальности. Более того, по-человечески он был склонен именно к моральной оценке исторических деятелей и их политики. «Какой же чудовищный, античеловеческий режим породила советская действительность после 1917 года»[1220], – записывал он в своей рабочей тетради 6 ноября 1988 г. В отношении оправдания Сталина победой в Отечественной войне, масштабными сдвигами в экономике и т. д. Адо был категоричен: «Преступления ничем оправдать нельзя»[1221]. Прочитав уже после 1991 г. биографию генерала Волкогонова, разоблачавшую Ленина, Адо был в негодовании от «поразительной безответственности» вождя революции[1222].
Тем не менее Адо сопротивлялся морализации и последовательно стремился отстоять в условиях беспрецедентной «дереволюционизации» принцип научности, требование историзма. Принимая свободу выбора как завоевание Перестройки, он возражал против полной «смены вех», против «поворота на 180˚» в оценке
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут