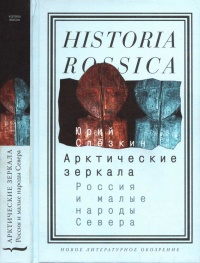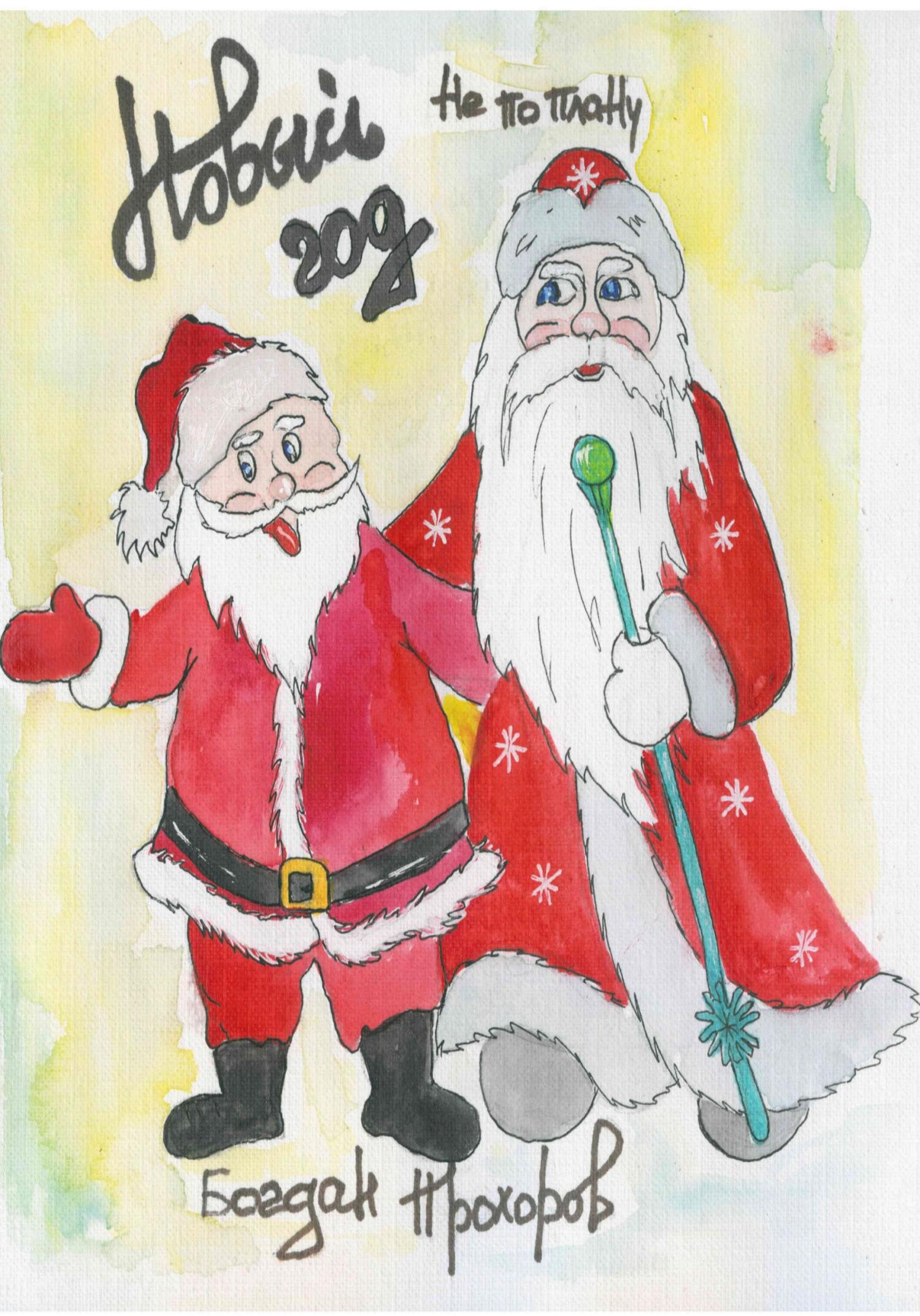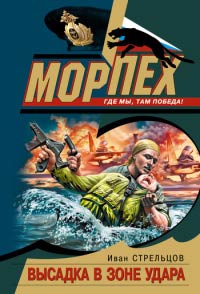Читать книгу - "Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера - Юрий Слезкин"
Аннотация к книге "Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера - Юрий Слезкин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Все последующее представляет собой значительное новшество в построении сюжета. Нанехак, будучи замужем за бесцветным, но добродетельным персонажем, становится лучшей ученицей Ушакова, но ее преданность основана на физическом влечении и потому потенциально разрушительна. Модель отношений между русскими и туземцами, много раз воспроизводившаяся в Больших путешествиях, предполагала, что русский должен быть богоподобным, а туземцы должны достичь состояния полного блаженства. В «Острове надежды» эти два условия невозможно было выполнить одновременно: либо он должен был лишиться святости, либо она и ее народ должны были остаться неудовлетворенными.
Решение было предложено христианством, верным союзником советских мифотворцев. Во время охоты на морского зверя Ушаков падает в ледяную воду, но его спасает Нанехак, которая (в присутствии мужа) раздевается и согревает Ушакова своим телом. Вскоре после этого она беременеет и объявляет, что отец ребенка — Ушаков. Читатель, муж и сам Ушаков знают, что это неправда («У нас ведь с тобой ничего не было», — протестует он), но Нанехак это не смущает. Она рожает сына и называет его в честь Ушакова, который председательствует на церемонии «советских крестин». Большевик остается божественным, а амазонка полностью удовлетворена. Первый плод русско-эскимосского союза происходит от непорочного зачатия.
Подобные развязки были малоубедительны в то время, когда большинство ученых и беллетристов начали сомневаться в непогрешимости большевика-наставника. Превратился ли он в бюрократа или наломал «слишком много дров», так или иначе, его охватили сомнения и раздумья. По крайней мере в двух романах о Большом путешествии русский герой влюбляется и поддается соблазну. Но, перед тем как это произойдет, девушка должна перестать быть верной ученицей и пустым сосудом: если он должен пасть, она должна стать воистину непреодолимым искушением; если он должен сойти с отцовского пьедестала, она должна перестать быть ребенком и приобрести самостоятельную ценность и тайну. Решительно опрокинув соцреалистическую туземную иерархию, но во всем прочем оставив структуру Большого путешествия нетронутой, Н.Л. Кузаков и Ж. Трошев делают ее шаманкой. Вместо того чтобы восставать против гнета древних традиций своего племени, она становится их жрицей и хранительницей, «хозяйкой тайги». И какой хозяйкой — ослепительно прекрасной, грациозной, гордой! «В черных глазах — молнии, на груди вздрагивают косы, позванивая монетами, жесты энергичные, повелительные».
Ее сходство с цыганкой или черкешенкой не вызывает сомнений, но ни Кузаков, ни Трошев не порывают с Большим путешествием ради улучшенной версии «Кавказского пленника». Русский путь (прогресс) очевидно лучше, и большевик, зачарованный великолепием ее «искусства», не думает об отступничестве. Она, а не он — трагическая фигура, «рыцарь печального образа». Он лишается чистоты, но сохраняет веру; она должна отречься от самой себя, чтобы найти любовь. В финале она делает правильный выбор и — в романе Кузакова «Любовь шаманки» — сдает изображение основателя рода и свои собственные одеяния в музей. По очевидным причинам читателю не показывают картин последующего супружеского счастья: он любит ее таинственную поэтичность, но соглашается жениться при условии, что она от нее откажется. Гордая хозяйка тайги не выдерживает соседства с телевизором и швейной машинкой.
Важный подвид литературы Большого путешествия — история обучения молодого северянина в большом городе — также претерпел существенные изменения. В 1930-е годы паломничество туземца завершалось обретением социальной справедливости (а также высоких технологий и человеческого тепла); в первые послевоенные годы его поражали необыкновенные качества простых русских людей; к 1970-м он писал мемуары и говорил почти исключительно о «культуре». Живя в Москве и Ленинграде и оглядываясь на пройденный путь, северные писатели с высшим образованием рассказывали о своем физическом и духовном освобождении. Начало их пути было мрачным и мучительным, каким и должно было быть начало всех Больших путешествий: «Неужели в этом тесном и темном жилище с земляным полом, с нарами от стенки до стенки, с дымоходом под нарами, в грязных лохмотьях детишек шамана, не видя света зимой, а летом всегда под палящим солнцем — неужели мы так жили в начале века и тысячу лет?»
Но теперь проводником в новый мир света и свободы был не Ленин, а Пушкин. Или Лермонтов. Или Толстой. «Русская книга. Она уводила меня далеко-далеко от привычного завывания вьюги за окном, от морозного звона высоких сибирских звезд». Юный герой Рытхэу сознательно равняется на «Детство» Горького, когда жадно проглатывает книгу за книгой в своем темном потаенном углу: сами книги «были маленькими лучами, освещавшими скрытый от Ринтына мир». Традиционная оппозиция света — тьмы приобрела новый, более «изначальный» смысл противостояния «природы» и «культуры»: «Природа — это шерсть медвежьей шкуры и мои страхи. Метели. Мир прекрасного — это школа, книги, русская речь. Природа меня закабаляла; культура — освобождала. Я хотел снять с себя природное и перейти весь в мир культуры».
Большевик больше не подходил на роль проводника. Только настоящий русский интеллигент, жрец культа Пушкина и Гоголя, мог посвятить неофита в таинства духовной свободы. Герои произведений Рытхэу и Киле — сироты, для которых самое ценное в приемном отце — культура и начитанность. Петр Киле в своих замечательно ярких воспоминаниях рисует булгаковские картины жизни самоуверенной и приверженной традициям аристократии духа и тела: «На некоторых дверях, по старинному обычаю, висят медные дощечки: “Профессор такой-то”. И мне это нравится». В кульминационной сцене герой Киле сдает вступительный экзамен университетскому профессору истории, благожелательному старому интеллигенту, и вдруг осознает, что их отношения учителя и ученика простираются далеко за пределы аудитории: «И так всегда было, когда я встречал на жизненном пути настоящих русских интеллигентов. Я это рано осознал, и моя мечта о великой жизни была часто связана с усыновлением меня вот таким старичком с его старушкой, и они жили непременно в Ленинграде», т.е. не в колыбели ленинской революции или столице петровской империи, а в городе, где бродят тени Пушкина и Достоевского. Равенство, приобретенное причастностью к интеллигенции, цементируется дружбой с русским. «И было странно, как за 10 000 километров — я в таежной глуши, он в Ленинграде — думали в сущности об одном и том же, открывали одних и тех же писателей. И мне было приятно сознавать, что мы на равных, что он мне симпатичен, и я ему нравлюсь».
В конце пути паломник обычно находил русскую жену и становился русским писателем или учителем. Его ребенок («подарок от России») рос в мире культуры (в России), а плоды его творчества предназначались для его новых и подлинных соплеменников — русских интеллигентов.
Писать на родном языке не имело смысла, потому что из восьми тысяч нанайцев на свете, если кто и читает стихи, читает на русском языке. Переводить Пушкина на нанайский язык нет нужды. Пушкина я люблю в стихии русской речи и отказаться от этого не могу. Да и писать стихи на ином языке мне кажется странным. И кто знает, насколько русский язык стал мне родным?
К 1972 г., когда вышла книга П. Киле, дихотомия природы и культуры стала чрезвычайно популярной. Но многие не соглашались с Киле относительно ее значения. Со времен XX съезда парши писатели отправляли своих молодых героев прочь от больших городов, на поиски подлинного самопознания. Король, как объявили народу его наследники, был не вполне одетым, и, по мнению некоторых представителей обманутого поколения, то же можно было сказать и о самих наследниках. Возвращение к семейным ценностям после «великого перелома» и распространение бюрократической чувствительности после войны смягчили советский революционный урбанизм; теперь появилось новое поколение авторов, отвергавших «культуру» Москвы и Ленинграда в пользу «природы» далеких окраин. Мекка молодых северян все чаще казалась им миром пошлости и фальши. «Оттепель» заставила усомниться в прошлом и тем самым затемнила будущее, а в настоящем по-прежнему царили плодовитые и время от времени неверные супруги, кушавшие борщ в уютной отдельной квартире. Где же, спрашивал пресытившийся и разочарованный юный герой, осталось место для подлинных чувств, твердых убеждений, истинной любви и вечной дружбы? Чем дальше от «хороших головных платков», тем лучше — гласил ответ, и десятки литературных персонажей отправились на охоту, в походы или геологические экспедиции.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут