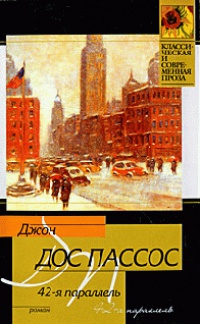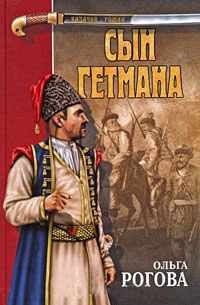Читать книгу - "Гапон - Валерий Шубинский"
Аннотация к книге "Гапон - Валерий Шубинский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Курс академии включал конечно же изрядное количество предметов — и специально-церковных (библейская история и археология, патристика, общая церковная история, история и разбор западных вероисповеданий, история и обличение русского раскола и т. д.), и общегуманитарных (психология, древняя и новая история, теория словесности, история философии и пр.). Преподаватели делились на две категории: «рясофоры» (духовные лица) и «фрачники». Между этими группами был некоторый антагонизм. Но и те и другие имели духовно-академическое, а не университетское образование. Церковная наука развивалась отдельно от светской, и хотя некоторые из профессоров Духовной академии (например, историк Николай Никонорович Глубоковский) имели звание членов-корреспондентов Академии наук, а иные параллельно преподавали в университетах (правда, не в Петербурге), все-таки в академическом сообществе они были на особом положении. Гапона, впрочем, впечатлил лишь один из них — Василий Васильевич Болотов, специалист по истории церкви периода первых соборов, эрудит и полиглот, аскет в частном быту, далекий от ортодоксии в богословских взглядах, действительно едва ли не самый крупный ученый, преподававший тогда в академии. Впрочем, Болотов умер уже в апреле 1900 года, а до того долго болел: Гапон недолго мог слушать его лекции.
Живые иностранные языки преподавали их носители. Надо было учить один из них — по выбору (Гапон выбрал почему-то сравнительно малопопулярный в то время английский). Об уровне преподавания, к примеру, русской литературы свидетельствует литографированный конспект курса лекций, посвященных Достоевскому и Тургеневу (до отлученного Толстого дело, видимо, не доходило), изданный в 1902 году. Уровень достойный, не уступающий какому-нибудь провинциальному университету, — хотя романы Тургенева предмет для богословов явно непрофильный.
Другими словами, образование, полученное Гапоном, было вполне качественным и глубоким — при том даже, что учился он без особого увлечения. Тем не менее — как-то учился, писал ежегодные сочинения, сдавал экзамены… Хотя не всегда академическая жизнь его шла гладко.
Первый «сбой» случился уже в 1898/99 учебном году. В середине года Гапон ушел в отпуск по болезни, засвидетельствованной академическим врачом Д. Пахомовым (о чем есть запись в Журнале Духовной академии от 9–10 июня 1899 года), и не сдавал никаких экзаменов.
О болезни Гапона известно мало. Судя по тому, что он отправился в Крым (деньги собрали по подписке), это было что-то легочное, может быть, простудного происхождения (южанин в Петербурге!).
В Крыму отец Георгий сперва жил в Ялте, потом — благодаря содействию епископа Таврического Николая (позднее видного черносотенца) — в балаклавском Георгиевском монастыре. Монастырь был полон отдыхающих, и монахи увлеченно занимались, так сказать, «туристическим бизнесом», в то время как (строго замечает Гапон) «2 тысячи десятин великолепных виноградников, принадлежащих монастырю и могущих давать по 200 руб. с десятины, оставались… заброшенными». Крестьянский сын не мог спокойно смотреть на такую бесхозяйственность (не говоря уже о далеком от аскезы образе жизни молодых монахов).
В Балаклаве завязались примечательные знакомства.
Среди тех, кто одновременно с Гапоном живал в Георгиевском монастыре, были известный либеральный публицист Георгий Аветович Джаншиев, литератор-толстовец (еще один!) Петр Алексеевич Сергеенко и прославленный художник Василий Васильевич Верещагин. Сергеенко оставил воспоминания о пиитическом времяпрепровождении этой почтенной компании. Например, о том, как, глядя на крымские сказы, отдыхающие «угадывали» в них разные образы. Лирически настроенный Джаншиев видел голову из «Руслана и Людмилы». Баталист Верещагин — Наполеона. Что виделось Гапону?
Между Гапоном и Верещагиным происходили сцены, забавлявшие окружающих.
«Гапон высоко чтил Верещагина как художника, но когда Верещагин проявлял какой-нибудь знак невнимания к Гапону, пылко-нервный батюшка заносил это полностью в счет и при первой же оказии демонстративно предъявлял его Василию Васильевичу.
Его при встрече „не заметил“ Верещагин. Он при встрече „не заметил“ Верещагина. И невозможно было смотреть без улыбки, когда эти два завзятых казака по природе встречались неожиданно после какого-нибудь неулаженного конфликта между ними. Точно два насторожившихся петуха. Обыкновенно кончалось тем, что „неприятели“ расходились и делали вид в течение нескольких дней, что „не замечают“ друг друга, или, молодецки рассмеявшись, начинали с увлечением беседовать, как ни в чем не бывало».
Сам Гапон тоже уделяет Верещагину несколько фраз в своих воспоминаниях. Между прочим, передает состоявшийся между ними разговор о картине Иванова «Явление Христа народу». Верещагин предъявлял к ней претензии, характерные для живописца-натуралиста конца XIX века: «Как мог кто-нибудь… возвращаться из пустыни с гладко причесанными волосами?»
Гапон попал в компанию светских интеллигентов, да при том из самой верхушки. А кем был он сам? «Патриархальный священник», как позднее задним числом назвал его добрый знакомец, В. И. Ульянов-Ленин? Ученый церковный человек, насаждение коих было целью Духовной академии? Или — полуинтеллигент из губернского города, земский статистик? И как подействовали на него летние встречи?
В пятом номере «Русской мысли» за 1907 год напечатана переписка Гапона с еще одним знакомым по Крыму, неким Г. И. (по-видимому, это упомянутый в гапоновских мемуарах «Михайлов», «старый идеалист сороковых годов») и, предположительно, его супругой, обозначенной литерами А. К. Ниже — некоторые выдержки из писем 1899 года с комментариями.
«Или — покориться своей судьбе, выражаясь словами Никитина: „Мне, видно, нет иной дороги — она лежит… иди вперед, тащись, покуда служат ноги, впереди — что Бог пошлет…“, или же с гордыми и смелыми словами (на устах) любимого вами стихотворения перейти Рубикон» (15 октября 1899 года).
«Любимое стихотворение» — это «Море» Петра Вейнберга, которого ныне помнят за другое произведение, одно-единственное — романс «Он был титулярный советник», и еще за многочисленные переводы с разных языков. Современники, однако, с восторгом повторяли:
Бесконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый друг мой — море.
Сколько силы благодатной
В этой шири необъятной,
В царственном просторе…
Еще Мандельштам непочтительно вспоминал, как 75-летний Петр Исаевич Вейнберг, «настоящий козёл с пледом», декламировал в середине 1900-х эти строки перед учениками Тенишевского училища.
А что за Рубикон, который Гапон решился было перейти, — это становится ясным дальше, из следующего письма, посланного 7 ноября.
«Со 2-го ноября я в Петербурге. Не заезжал до своего батьки и неньки потому, что, отдав 22 руб. долга о. Петру, едва-едва достиг столицы. В академии приняли очень хорошо, отвели комнату и засчитали сочинение. Признаюсь, всякое участие со стороны академии болезненно отзывается в моем сердце. Но что же делать? Бедность! А жить в Петербурге приходится ради хлопот по своему делу. Ректор историко-филологического факультета[7], с семейством которого я знаком, сообщил, что поступить в университет можно двумя путями: 1) держать экзамен на аттестат зрелости 2) поступить пока вольнослушателем; держать же экзамен через год, два… Только вопрос, можно ли поступить до Рождества Христова».
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
 yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн