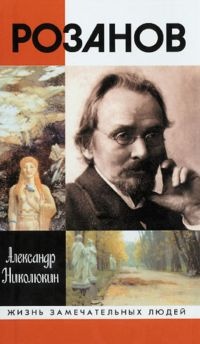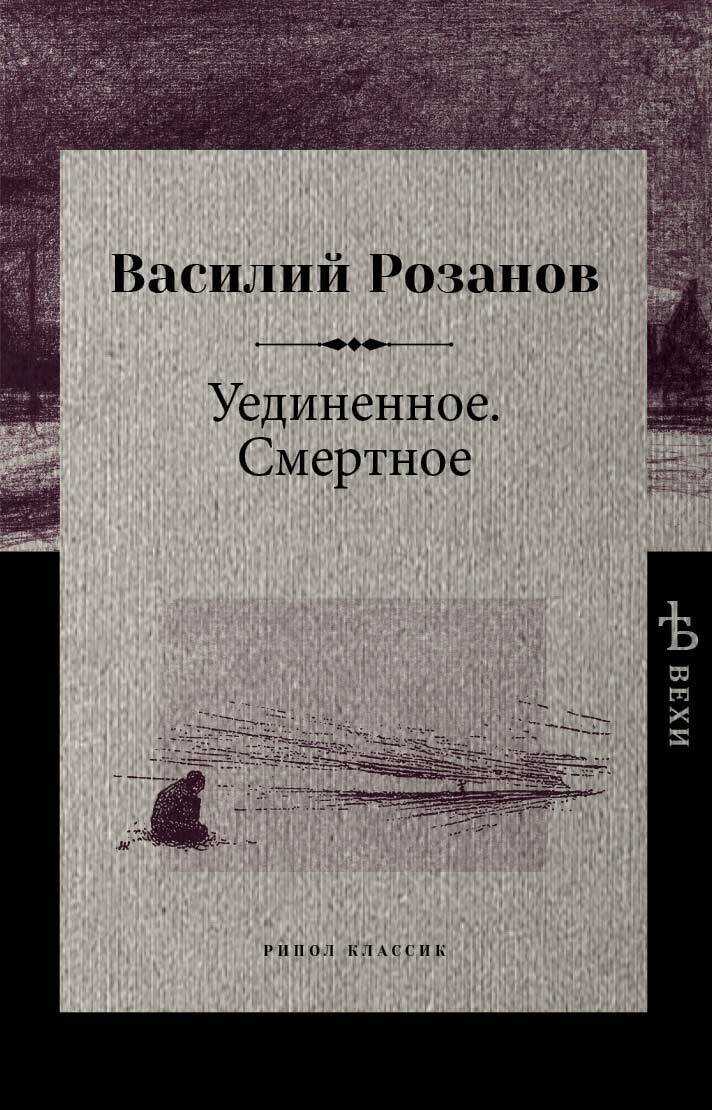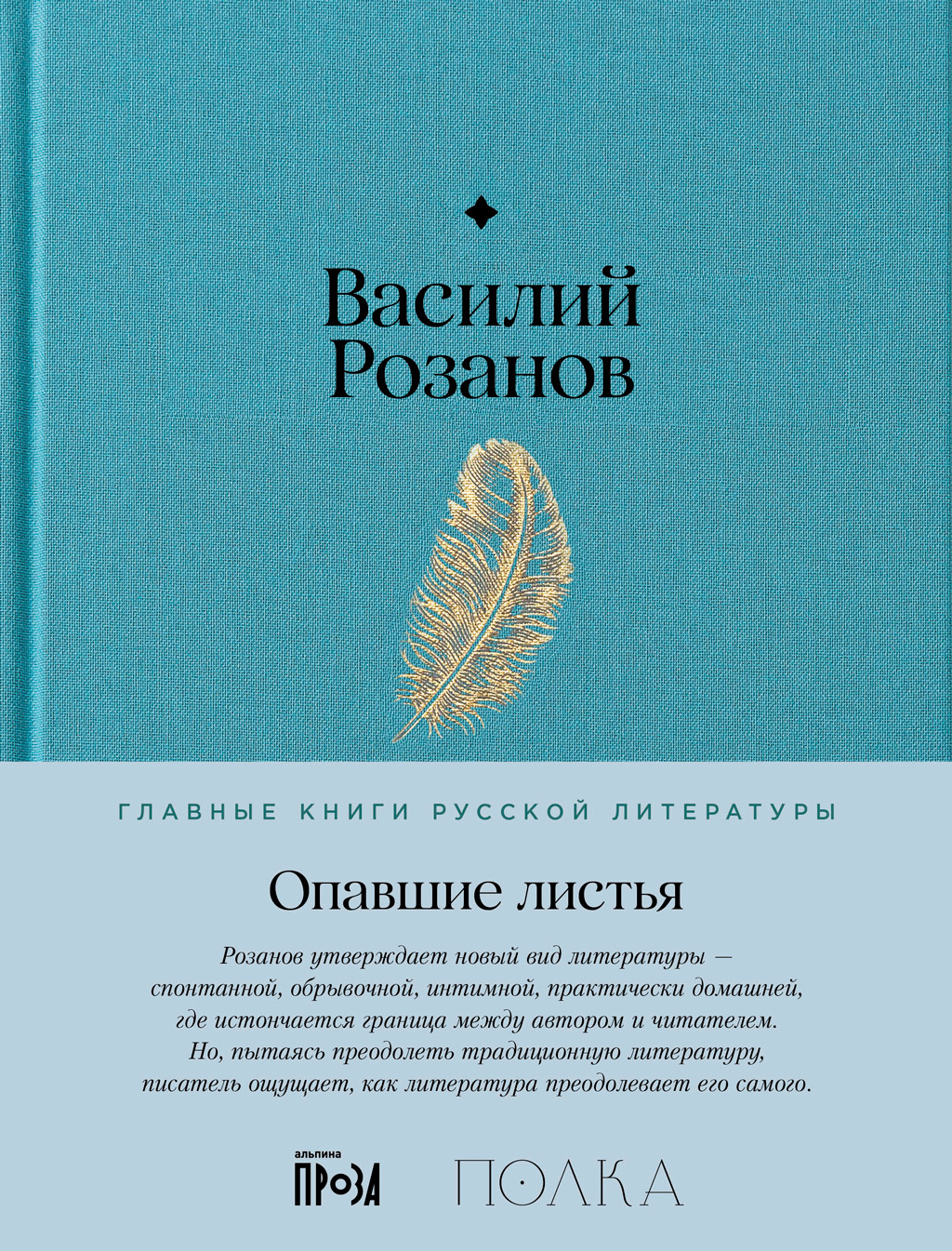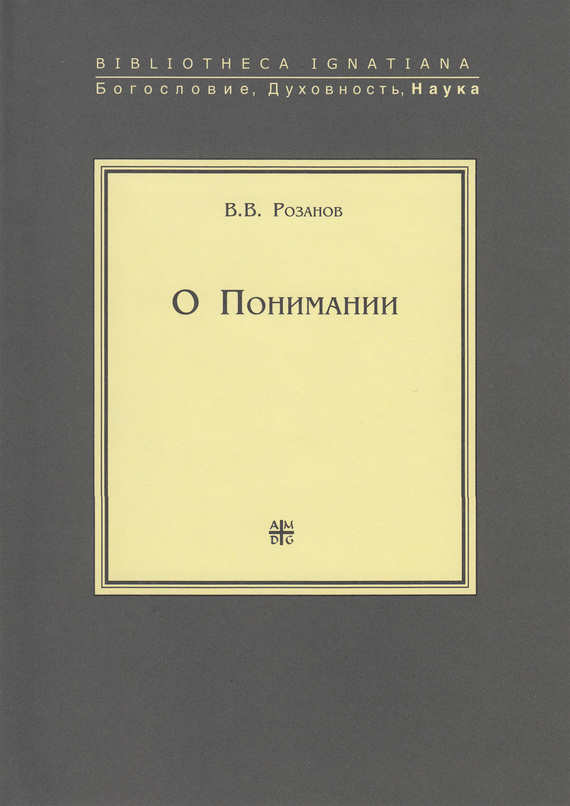Читать книгу - "Розанов - Александр Николюкин"
Аннотация к книге "Розанов - Александр Николюкин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Наряду с этим Розанов видит бесспорное превосходство архитектоники толстовских произведений над всем в русской литературе. «На вопрос, что ему более дорого, что, в случае выбора, он предпочел бы сохранить для русской литературы и, наконец, себе лично на воспоминание и сбережение, — „Мертвые души“ или „Войну и мир“, каждый или большинство русских ответили бы:
— Конечно, „Мертвые души“ выше как литературное произведение, но для меня и, вероятно, для России в „Войне и мире“ есть что-то неизмеримо более дорогое, милое, ценное, прекрасное».
Поэма Гоголя, может быть, гениальнее, властительнее, но «Война и мир» для Розанова да и для всякого русского нужнее, без нее он менее может обойтись. «Мастерства меньше, а произведение дороже», — делает вывод Розанов. «Войну и мир» он сравнивает с посохом, который на всем пути нужен, как бы ни был длинен и разнообразен путь жизни. А «Мертвые души» — это как палочка виртуоза-капельмейстера, сделанная из слоновой кости и с золотой инкрустацией, но на нее не обопрешься.
Гоголь был, по определению Розанова, «волшебник микрокосма, преуменьшенного мира, какого-то пришибленного, раздавленного, плоского и даже только линейного, совершенно невозможного и фантастического, ужасного и никогда не бывшего». Совсем иное у Толстого. Форма его слабее, но зато какое содержание! — восклицает Розанов. «Этим содержанием, том за томом, глава за главою, он и покорил себе мир! Он покорил его великим благородством души своей».
Гоголь-мыслитель, напротив, для Розанова не существует. Он просто не придает этой стороне Гоголя какого-ни-будь значения. «Выбранные места из переписки с друзьями» остались для Василия Васильевича книгою за семью печатями. А может быть, он просто и не прочитал ее. Такое тоже бывало: признавался, что не читал лесковских «Соборян», хотя Лескова ценил высоко.
Талант Гоголя велик, выше, чем у Толстого, но душа несравненно мельче, неинтереснее, даже «неблагороднее», чем у Толстого, полагал Розанов. «Все — „мертвые души“, обернувшийся „ревизором“ прощелыга, картежные шулера („Игроки“), забавные женихи и невесты („Женитьба“), недалекие офицеры и ремесленники, бездарные и вороватые чиновники…»
Отсюда и делается такой ограничительный вывод о всем творчестве Гоголя: «Горизонт до того тесен, до того узок, что задыхаешься. В сущности, везде Гоголь рисует анекдот и „приключение“, даже в „великой русской поэме“ своей… И это до того узко и, наконец, страшно, страшно именно в гении и корифее литературы, что растериваешься, ум сжимается недоумением и начинает негодовать. „Бедная ты, душа, а с таким даром!“ — говоришь об авторе. Мощь формы и бессилие содержания, резец Фидиаса, приложенный к крохотным и, по существу, никому не нужным фигуркам, — это поразительно у Гоголя. В его „Носе“ это достигает апогея: содержания никакого! Так, „тьфу“, нечего и передать, бессмыслица, болтовня».
Мысль, как всегда у Розанова, спорная, острая, парадоксальная. Но дело не в том, чтобы «оспорить» Розанова, а в том, чтобы понять ход его мысли, ради чего все это говорится, какова «сверхзадача» всех его рассуждений.
Василий Васильевич при всем том, что не всегда с ним соглашаешься, обладал счастливым талантом: он понимал и чувствовал не только русскую литературу, ее творцов и их книги. За всем этим ему виделось нечто большее: Россия, русский народ, его история и нелегкое будущее. Без осознания этого нельзя по-настоящему оценить доводы Розанова — почему он ополчается на одно или хвалит другое. Гоголь для него — сатира и смех над Россией, ее настоящим и будущим, а Толстой — это русская земля в ее истории и славе, в жизни народной.
Объясняя исконную связь Толстого с землей, Розанов сравнивает его с огромным живым деревом. «Вся русская земля питает это красивое и долговечное дерево, свое любимое дерево». И далее следует личностное и потому возможно спорное, но тем самым и интересное суждение Розанова о писателях прошлого, о которых он говорит так запросто, как если бы они были его старыми друзьями: «У Грибоедова везде недостает теплоты; у Тургенева нигде нет религиозного, христианского глубокомыслия… Крылову недостает интеллигентности; у Гоголя нет благодушия и простодушия, он нигде не стоит к изображаемым предметам плечом к плечу, в уровень, любя и уважая. Всюду его взгляд устремлен сверху вниз, везде-то это ястреб, выклевывающий глаз действительности. Ужасный недостаток, плачевный! Наконец, эхо-Пушкин нигде не внедряется в предметы, а, как волна, только окатывает их, омывает и несет их аромат, но не сохраняет ничего из их сущности».
Давно известно, что перечень того, чего «недостает» писателю, едва ли плодотворен. Гораздо полезнее бывают мысли о том, чем наделен писатель: «Благородная душа Толстого, благородная именно в силу многосоставности, и проникает внутрь предметов, видит их „душу“ и чудно лепит их формы». Вписывая Толстого в панораму русской литературы, Розанов находит ему место, где сосредоточено все то, что отсутствовало у его предшественников: теплота, вера, дар психологического прозрения, изобразительный талант, склонность постоянно и у всех учиться.
Разнообразие толстовского освещения человеческих фигур и поступков позволяет увидеть в них больше, чем подчас хотел сказать сам автор. «Брильянт души своей» он поворачивал к предмету то одною гранью, то другою. «Где истина, — смотрите сами». В результате этого, хотя, судя по эпиграфу к «Анне Карениной», он думал первоначально «расказнить» прелюбодеицу, изменившую супружескому и материнскому долгу, но «правда дела» и многогранность освещающего «брильянта-глаза» сделали то, что едва ли какое-нибудь другое лицо его произведений так взволновало читателей, так привлекло к себе их любовь и скорбное уважение, как этот трагически прекрасный образ.
Сила художественного дарования переиначила первоначальный замысел романа. Пришлось Толстому «изменницу» выводить вторично («Крейцерова соната»), намеренно придав ей отталкивающие черты. «Однако правда дела и опять же многогранный его дар сделал то, что осудили все убийцу-мужа, осудили его больше, чем убитую „прелюбодеицу“. Теплота и правда его произведений всегда пересиливали его тенденции, и от этого последние, в случае ошибочности, теряли свою силу».
Художник оказывался сильнее проповедника. Розанову особенно важно, что церковное понимание семьи подвергается у Толстого суровой критике. Семейный вопрос, как всегда, был для Василия Васильевича определяющим, и сквозь эту призму взирал он на творчество писателя.
Необычно ставит Розанов и вопрос о всемирном значении Толстого, делая различие между «популярностью» Гюго, Диккенса, Вальтера Скотта, Тургенева, Гончарова, которые пришли в цивилизацию, «посидели за ее столом», вкусили, но не они были «сама эта цивилизация». Ибо всемирность определяется не успехом, а лишь самим содержанием и значимостью произведения. «Без Гете, без Байрона, без Шиллера и также без Толстого цивилизация не дополучила бы некоторого составного и необходимого цвета в себе; она сама бы стала меньше; несколько не доразвилась бы, не дородилась бы, разница неизмеримая со всемирной читаемостью, даже со всемирными восторгами!»
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
 Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
 Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут