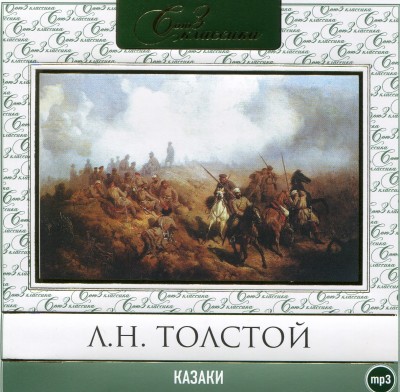Читать книгу - "Лев Толстой - Владимир Туниманов"
Аннотация к книге "Лев Толстой - Владимир Туниманов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Ложь мюридов еще больше не соответствует действительности, чем военные российские реляции, что, как оказывается, прекрасно в душе понимает Шамиль, который «несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжено и разорено, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним, — всё это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать». Поклонение и лесть окружающих не заглушили в Шамиле понимания реальной ситуации; ложь, понятно, необходима, а иногда спасительна, но она не может и не должна скрывать истину, которую надо знать и в соответствии с ней действовать. Шамиль здесь противоположен русскому императору, давно уже не замечающему собственных противоречий, стершему грань между ложью и правдой.
Превосходен портрет Шамиля. Казалось бы, монументальная неподвижность имама («лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно») сближает его с окостеневшим Николаем. Однако это внешняя близость. В царе неподвижность и окаменелость уже не маска властителя, а суть, омертвление, безжизненность. Неподвижность Шамиля — характерная «азиатская» черта, стиль поведения, освященный вековой традицией. Как будто перекликается с некоторыми деталями простого быта Николая и непритязательная одежда имама. На самом деле и здесь можно говорить лишь о внешнем сходстве. Скромный наряд Шамиля, контрастируя с роскошным убранством свиты, естественен, «предписан», эффектно создает «впечатление величия», жесткая постель и плащ Николая I — бездарное лицедейство, подражание Наполеону.
Толстой дает обобщенный портрет «азиатского» деспота, почти лишенный индивидуальных черт. Тем сильнее впечатление от всегда прищуренных маленьких глаз Шамиля — прорыв сквозь всеобщее в личное, в «преисподнюю» деспота. Прищуренные глаза имама, в которых сконцентрировалось всё злое, жестокое, вероломное, вселяют не меньший ужас, чем холодный взгляд Николая I. Почти во всем противопоставленные, разные, Николай I и Шамиль совпадают в надындивидуальной и наднациональной плоскости деспотизма, неограниченного самовластного произвола. Так Толстой достиг «крайне любопытного параллелизма», но не прямолинейными сопоставлениями двух деспотов и «полюсов» деспотизма (этого в повести нет), а неуловимым смещением повествования вглубь, подспудным сцеплением художественных мыслей.
Важно здесь сказать еще об одном. Совершенно различны среда, окружение царя и имама. В безжизненном мире Николая всё лживо и пусто. Отрегулирован и бюрократизирован разврат. Искусство уподоблено военному параду голых женщин; его «высшая» и единственная цель — разжигание похоти («После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин»). Хаджи-Мурата и его нукеров сопровождает «поэзия особенной, энергической горской жизни». Ее отблеск падает и на Шамиля («высокая, прямая, могучая фигура»). Восхищают легкость, гибкость движений бывшего «силача» и «джигита», трогательная беспомощность «деспота» в домашнем быту. Пусть и скованная этикетом, пульсирует жизнь, присутствует простое человеческое начало.
Расширение повествовательного пространства не привело к размыванию и раздроблению художественной структуры произведения. Побочные, спонтанно возникшие сюжетные линии не заслоняют «давнишнюю кавказскую историю». Как, впрочем, и она не подавляет других, «малых» историй, не скомканных, не прерванных на полуслове, а отделанных и завершенных. Одна из них — история солдата Авдеева и его семьи: сюжет, с точки зрения Толстого, столь же важный для «истории-искусства», как и «описание жизни всей Европы».
Крупным планом показана смерть Авдеева, «важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла…».
Другие смерти (кроме, конечно, Хаджи-Мурата) воспроизведены в беглом хроникерском стиле с безжалостным обнажением жестоких подробностей. Гибнут преследующие наиба и его нукеров Назаров, Игнатов («здоровый мужик, хваставший своей силой»), Петраков («молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый»), Игнатова шашками «полосовали… по голове и рукам» двое горцев, а потом добил кинжалом «рычащий» чеченец Гамзало; он же прирезал раненого и изрубленного Назарова. Два выстрела «сожгли» Петракова. Не бой, а бойня, жестокая и зверская расправа.
Смерть настигает внезапно, и в нее не успевают поверить полные сил и энергии люди. «Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального и страшного». В ясное небо глядит Петраков, с горестным недоумением уходящий из радовавшей и улыбавшейся ему жизни, — он «лежал навзничь с изрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал».
Резня — а сигналом к началу ее послужил выстрел Хаджи-Мурата — восполняет существенный пробел в образе «страшного горца», освещает те черты его личности и «разбойничьей» жизни, о которых в повести упоминается глухо и косвенно. Картина резни абсолютно необходимо вошла в повесть вместо одной ненаписанной главы из биографии Хаджи-Мурата, содержание которой контурно обозначено в хоре голосов, обсуждающих в тифлисском дворце Воронцова личность баснословного наиба: «Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение: „Что делать? A la guerre comme а la guerre“. В третьей редакции этот мотив звучал отчетливее, резче: „Так вот он какой! Лицо доброе, а какой зверь“, — подумал полковой командир, вспоминая, как два года тому назад они нашли перерезанными по приказанию Хаджи-Мурата двадцать шесть человек пленных во взятом ауле».
Толстой не развернул этот мотив и выбросил присутствующую почти во всех редакциях законченную сцену экзекуции горцев, психологически хорошо объяснявшую корни ненависти Хаджи-Мурата к русским, причину, побудившую его примкнуть к хазавату. Вместо этого в повести — уравновешивающие друг друга карательный поход на аул и описание истребления конвоя. Толстой избегает прямых ассоциативных сцеплений, заменяя их внутренними, неявными скрещениями художественных мотивов. Казалось бы, тавлинская легенда о соколе (ее сюжет заимствован из книги брата Николая «Охота на Кавказе» — память о Николеньке) связывалась в воспоминаниях наиба с обликом сына. Толстой дорожил такими художественными сцеплениями. И всё же он на самой поздней стадии «подмалевки» текста повести связь ликвидировал, выбросил замечательную сцену восхождения сына на гору с соколом. Связь, видимо, показалась Толстому нарочитой, сочиненной, которую могли принять за «фантазию» автора. Можно сожалеть о чрезмерной щепетильности, даже мнительности Толстого-художника, но нельзя не признать логичности этой «жертвы», лишь одной в длинном ряду других, в гораздо большей степени оправданных. Так, Толстой решительно сокращает всё связанное с «воинственной поэзией», которой более всех одержим Бутлер, и ее разоблачением. Мертвая голова наиба ничего не оставляет от утешительной, поддерживающей слабеющий дух героя лживой поэзии. Смятение Бутлера, горькое разочарование в предварительных редакциях непосредственно связаны с демонстрацией головы: «„Да как же было дело?“ — спрашивал Бутлер, испытывая страшное болезненное чувство жалости к этому убитому милому человеку и омерзения, отвращения и ненависти даже к тем, которые сделали это, к тем, которые, сделав это, гордятся этим, показывают тот ужас, который они сделали. Вид этой головы сразу отрезвил его. Вся поэзия войны сразу уничтожилась, и ему стало физически больно и стыдно». Рассуждения и описание чувств героя Толстой отбросил, оставив недоуменные и растерянные вопросы («Как же это? Кто его убил? Где?»). Но конечно, преднамеренно расправе над конвоирами в повести предпослана «демонстрация» головы Хаджи-Мурата (результат предваряет в художественном пространстве повести рассказ о событии: читателю известен итог уже после пролога, но, в сущности, он ничего не знает, ему постепенно будет открываться герой и его история). Звучит стандартная реплика («На то война») и ее эмоциональное опровержение: «Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право…»
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
 Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут
-
 Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
 Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
 Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн